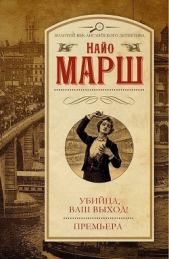Наседка

Наседка читать книгу онлайн
В книгу вошли рассказы разных лет выдающегося французского писателя Луи Арагона (1897–1982).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Луи Арагон
Наседка
– Ну, будешь говорить?
Они били его – били долго, неотвязно. Эти двое своих кулаков не жалели. На его спину и бедра страшно было смотреть. Инспектор Беллем вздохнул: ну прямо скоты, а не люди. Ничего не чувствуют, честное слово. Ведь он так ничего и не вытянул из этого негодяя. Начальство еще, чего доброго, решит, что инспектор не умеет работать…
– Убирайтесь! – сказал он уныло.
Арестанту швырнули одежду. Пришлось его даже поддерживать, чтобы он не упал, пока одевался; все это было не слишком-то аппетитно, можете мне поверить.
– Хоть нос затыкай! – жаловался в тот день инспектор одному из своих коллег, сидя в кафе и потягивая сок с сахарином – пойло, которое только и можно получить в четверг, если ты пива не любишь.
Коллега покачал головой:
– При такой работе все же следовало бы нам выпивку выдавать – для подъема духа…
Камера была, прямо сказать, невелика. Уже, наверно, вечерело. Свет в зарешеченном окошке под самым потолком угасал. Скоро, должно быть, совсем стемнеет. Он скосил глаза к параше. Разве до нее доползешь? А крышку как поднять – зубами? Руки в наручниках за спиной – не расстегнешься, а когда все тело в ранах и ссадинах, ходить под себя – хуже некуда. Тюрьма набита до отказа, но для него сделали исключение: он был в камере один. Впрочем, именно это обстоятельство его и утешало немного – ничего он так не боялся, как сидеть вместе с уголовниками… и с наседкой. Он опасался, что к нему подсадят наседку, – это было у него как наваждение.
Он ворочался на зловонном соломенном тюфяке, не зная, как лучше пристроить наболевшее тело: через одну-две минуты боль опять становилась невыносимой. Там, где кожа от побоев не пострадала, она сильно зудела; от летнего зноя и спертого воздуха зуд делался еще мучительнее. Тюфяк прогнил, весь кишел паразитами, по камере полчищами носились мухи, садились на свою жертву – жертва только вздрагивала.
Арестанта преследовало воспоминание о майских жуках, которых в эту весну было в пригороде особенно много. Тяжелые, толстые жуки, упав на спину, никак не могли перевернуться и отчаянно болтали в воздухе ножками. Теперь наступил его черед стать майским жуком. Как была хороша весна! Как славно пахли деревья!.. И каково об этом вспоминать здесь, в камере…
Но страшнее всего был в камере даже не запах – страшнее была солома. Мельчайшие ее частички липли к одежде, забивались между одеждой и телом, от нее невозможно было избавиться, невозможно вытрясти, выбить… Вот ведь чудно: ты весь покрыт язвами, все тело так и гудит от боли, а больше всего тебе досаждает солома. Кругом чудовищно грязно, воздух просто вдохнуть невозможно, а тебя сильнее и грязи и вони донимает это желтое крошево, этот тонкий, как пыль, порошок, что лежит вокруг отвратительным тюремным налетом…
«Я ничего не сказал…» Он все время твердил эту фразу, она немного подбадривала его. Из распухшей губы сочилась кровь. Исчерпав все аргументы, инспектор ткнул его кулаком в лицо. Арестант трогал языком сломанный зуб – край зуба был острый и соленый на вкус.
«Я ничего не сказал…»
Время от времени надзиратель отворял дверь, чтобы пролаять всего одно слово, точно с китайцем говорил: «Хлеб», или: «Почта», или: «Молчать!..» Потому что порой в приступе ярости арестант начинал колотить кулаками в тяжелую дверь… Это было еще до того, как его так страшно избили… Ему было нужно, любой ценой было нужно кого-нибудь, неважно кого, пусть даже это пепельно-серое лицо с курносым носом, – было нужно кого-то услышать, услышать пусть даже хоть это слово, которое вылетало из серого лица, как пыль из тюфяка: «Молчать!..» Теперь он в наручниках. Теперь ему еще тяжелей. «Молчать!..» – «Я ничего не сказал…»
«Почта…» Но для его камеры почты не полагалось.
«Хлеб…» На полу и вправду валялась половина ломтя, и даже стояла в кружке вода, но добраться до них было так же немыслимо, как доползти до параши. Вывернув шею, арестант прикидывал, как ему дотянуться до кружки, чтобы не опрокинуть ее и хотя бы смочить в воде пересохшие губы. Надо было дожить до утра, когда надзиратель отворит дверь. А сейчас была ночь. Но именно в эти часы тюрьма оживала.
Начинали разговаривать на своем непонятном языке все стены, со всех сторон доносились глухие удары и стуки, то размеренные, то торопливые, всевозможные комбинации коротких и долгих ударов – азбука, которую ему давно следовало изучить. Через все здание передавались с одного конца на другой вопросы, ответы. Этот вечерний час становился для скованного человека ежедневной пыткой, когда он изнемогал от бессилия и надежды. Обитатель соседней камеры с величайшим терпением повторял один и тот же сигнал, должно быть надеясь, что кто-то в конце концов ответит ему. Арестант пытался воспроизвести этот призыв, в точности повторить его ударами головы о стену. Но он не знал секрета этого языка. Дальше простого повторения он пойти не сумел. Впрочем, в нынешний вечер он был слишком слаб и для такого сигнала, который мог бы сообщить незнакомому другу, что он еще жив. Многоголосый концерт, шедший изо всех камер, отдавался болезненным звоном в распухшей голове. Было что-то нелепое в том упорном внимании, с каким этот несчастный ловил непонятные ему звуки. Он, пожалуй, и сам не мог бы сказать, чего ему больше хотелось – чтобы все замолчало вокруг или чтобы переговоры узников налились оглушительной силой и сотрясли тюремные стены. Подобно человеку, на которого неожиданно напялили наушники радиста и который, не зная азбуки Морзе, слышит сигналы бедствия с далекого корабля, он скрежетал зубами, закрывал глаза, но не в силах был заткнуть себе уши. У него наверняка был жар. Будь жар посильнее, его, может быть, перевели бы в больницу. Впрочем, рассчитывать на больницу не приходилось. Ничего, скажут ему, от такого жара не умирают! В ушах звенели колокола. И по-прежнему раздавались глухие удары в стену, упорные, настойчивые. Господи, о чем они могут так долго рассказывать? Ночь давила своей духотой. «Я ничего не сказал… я ничего не сказал…» По нему с жужжаньем ползали тяжеленные мухи. Когда они доползали до затылка, человек вздрагивал, точно конь в упряжке. Внизу живота нестерпимо зудело. Он попробовал почесать это место, ерзая по тюфяку, но его пронзила боль в пояснице. Жар. «Я ничего не сказал…» Но волшебная фраза утратила свою целительную силу. Она прокручивалась теперь в мозгу механически, от нее уже не было никакой пользы. «Я ничего…» Под закрытыми веками мерцали цветные сполохи, фосфоресцируя и угасая; пробегали неясные тени. Чье-то лицо, выражение чьих-то губ, обезумевшие глаза… А может, то был пейзаж вдалеке, под затянутым свинцовыми тучами грозовым небом… И – птичий двор, куры, наседки… Сон упал на него, как сеть на добычу.
Он проснулся от непонятного шума и от вспыхнувшей следом боли. Вокруг по-прежнему было темно. Но на уровне его взгляда что-то двигалось, шарил по камере луч зыбкого света – наверно, от карманного фонарика надзирателя. Упал в темноту конец нерасслышанной фразы, хлопнула дверь. В камере кто-то остался! Человек понял, что мимо прошел кто-то в брюках. Неизвестный возился где-то рядом. Топтался, даже споткнулся. За что задел он ногой? Было слышно дыхание. «Да что здесь такое?» Кто из них двоих сказал: «Да что здесь такое?»?
Они не спешили знакомиться. Когда старожил понял, что ему дали товарища, он сразу изготовился к обороне.
Наседка. Это, конечно, наседка. Несомненно, наседка. «Я ему ничего не скажу», – подумал он, и все его раны дружно подтвердили это решение. Он застонал. Другой отозвался:
– Не будем унывать. У вас тут даже довольно мило! Разрешите представиться – Голье, Жозеф Голье…
Да, забавно, ничего не скажешь. Каков он собой – высокий или низкий, худой или толстый? Одно несомненно: это наседка. Но пришел он, конечно, кстати: теперь будет проще сладить с парашей. Да и с водой тоже! Новичок нащупал кружку, дал напиться.