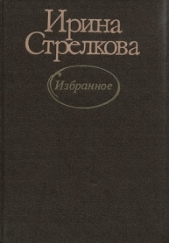Рассказы

Рассказы читать книгу онлайн
Сборник рассказов Альфреда Хейдока (1892-1990), крупного писателя русского Китая.
Оглавление:
Рассказ деда Маркела
Переодетые
Лжеучитель
Песнь торжествующей любви
Навсегда
Очерк о Змеиногорске
Переодетое счастье
В пургу
Как Камушкин пошёл на первомайский парад
Мотылёк
Дождь
Летят утки…
Сказание о царе Юдхиштхире
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Альфред Петрович Хейдок
Рассказы
Рассказ деда Маркела
Мне тогда лет девятнадцать было. Отец вздумал новую избу ставить — вот эту самую, в которой теперь сидим. Да денег малость не хватало. Дед Сафрон вызвался сгонять плот в низовье да в городе продать — деньги будут. Зимою лес наготовили и к лету, когда в наших сибирских реках сильные паводки бывают, плот снарядили. В середине, как водится, шалаш из коры поставили, печурку соорудили. Дед туда картошки натолкал и прочую снедь, а я так даже гармонь прихватил. Отвалили вдвоем с дедом, да вскоре на корягу наскочили, никак не можем отцепиться, пришлось самим в холодную воду лезть да немало там повозиться. Снялись — поплыли. Мне-то от этого купанья ничего не сделалось, только за ужином вдвое против прежнего картошки съел, а у деда сильно поясницу заломило. Он и керосином натирал — помогало мало, лежит-охает. Тут деревенька на берегу оказалась. Дед и говорит:
— День субботний. Люди бани топят. Пойду к людям, где-нибудь попарюсь и в тепле переночую. А ты плот карауль. Завтра утром приду.
А мне что? Тоже не прочь отдохнуть — пока что к гармошке не притронулся: некогда было. А тут места дивные: сопки по берегам, как курчавой шкурой, лесом одеты. А на берегу, немного выше того места, где мы с плотом приткнулись, высокий коричневый утес так и горел на закатном солнышке.
Гармошку достал, сел на плот — играть и петь песни захотелось. Кругом тишина такая, только вода плещется и рыба нет-нет с подскоком бултыхнется. Наигрываю и напеваю «По диким степям Забайкалья», вдруг заметил что-то алое на вершине утеса. Перестал играть, присмотрелся — вроде девка в алом сарафане на утесе стоит.
Глаз у меня зоркий, особенно если я через сложенные кулаки как через трубу смотрю. Гляжу — веночек из цветов у нее на голове, и молча на закатное солнце глядит. Постояла, сняла веночек, волосы распустила. Потом перекрестилась и прыгнула в реку. Как красная птица, алой дугой летела.
Вот спроси меня, что думал в тот миг, и я отвечу, что не знаю. Руки и ноги, как машины, сами собой заработали. Скинул с себя все и бултыхнулся в воду. Одно сообразил — течением ее в сторону нашего плота понесет. Поплыл навстречу и нырнул. Если б не алый сарафан, проглядел бы девку. Я уже задыхался, думал, что легкие у меня лопнут, как увидел ее. За волосы утопленницу схватил и из последних сил поволок к плоту. Втащил на плот — не дышит.
Ну что мне с нею делать? Я не доктор и не фельдшер. Слыхал, что надо сперва из утопленника всю воду вылить. Взял ее за лодыжки и приподнял головой вниз. И действительно, вода вытекла. Положил ее навзничь. Прилипшее к телу платье сдвинулось вверх. Оголился белый, тонкий девичий стан. Крутобедрая, высокогрудая девушка лежала предо мной, и капли воды, точно застывшие слезы, мерцали в ее длинных ресницах. А на лице, на губах такая горечь, такая обида залегла, что и сказать невозможно. Точно была она приглашена на богатую свадьбу и долго к ней готовилась, новое платье сшила и с радостным ожиданием счастья, с цветами в руках пошла на этот званый вечер, но осмеяли ее, с порога прогнали, оскорбили и вслед наплевали.
И так мне стало жаль ее, что не знаю, чего не отдал бы, лишь бы вернуть ее к жизни, лишь бы заулыбались эти искаженные горечью губы.
И взялся я за нее, руки и ноги туда-сюда разводил, и на грудь надавливал, обжимал, и рот к ее рту прикладывал — пытался дыханием воздух в легкие протолкнуть. Знал, что тут каждая секунда дорога. Но не поддавалась она, точно ее не к жизни, а больше к смерти тянуло. Солнышко уже заходило, я совсем измучился, как вдруг — задышала. Вот уж тут, скажу, не было у меня в жизни большей радости. Уволок ее в шалаш на дедушкину постель, его полушубком укрыл — пусть отсыпается.
Сам решил еще какое-то время не ложиться — вдруг что-нибудь понадобится, но вскоре, сам не помню как, заснул.
Хороша молодость тем, что как заснешь, так без просыпу до утра. Не то, что в старости: ворочаешься, да еще встаешь и куришь.
Когда я проснулся, моя утопленница не спала, а сидела на постели, и лицо у нее хмурое-хмурое. Только я на нее взглянул, спросила:
— Ты меня из воды вытащил?
— Да вроде больше некому, — пытался я пошутить. Сказать «я» как-то зазорно показалось, как хвастовство: вот, мол, твой спаситель — знай и уважай…
Но ответа никакого не последовало — сидит хмурая-хмурая. Даже обидно стало: спасибо-то могла сказать.
Надоела мне молчанка, и говорю:
— Когда думаешь домой идти — сейчас или вот сварганю завтрак, покушаешь и пойдешь?
Она помолчала и вдруг отвечает:
— Никуда я не пойду — здесь останусь.
Я вытаращил глаза. А она продолжает:
— А не хочешь, чтоб я осталась, пихни обратно в воду, откуда вытащил. Я сопротивляться не стану.
Я опешил да забормотал совсем нескладно, что по мне хоть век живи с нами. Я рад. Да вот что дед скажет, когда вернется.
Сварил завтрак — сам поел, и она поела. Молчит, на расспросы не отвечает.
Солнышко уже было высоко, когда на берегу дед показался. Я издали его заметил и пошел навстречу, чтоб заранее рассказать, разжалобить деда, как бы он девушку не обидел. Дед выслушал меня, ничего не сказал, а как вступил на плот и увидел ее, обернулся ко мне и уронил всего два слова:
— Девка беременна.
Не скажу, что это меня поразило, но как холодной водой окатило: так вот почему она…
Дед прямо направился к девушке.
— Как звать тебя?
— Евдокией.
— Так не пойдешь домой?
— Нет.
Дед рукой указал ей на один из углов шалаша.
— Спать будешь здесь. Сходи на берег, наломай лапнику, чтоб бревна тебе ребра не давили. Подстилки для тебя припасено не было.
Плывем день, плывем два. Евдокия малость отмякла, понемногу разговаривать стала, еду готовила, и вкусно у нее получалось — не так, как у меня или у деда. Течение было спокойное, работы на плоту мало. Когда дед у руля, я на гармошке наигрываю да смотрю, как Евдокия в шалаше картошку чистит или на борту воду черпает, ложки моет. И все мне казалось красивым: и голубое небо с пухлым беленьким облачком, и зеленые сопки, по которым бежала тень от него, и гладь реки, которую, казалось, на извилине запирала соседняя сопка. Все ласкало глаз и казалось каким-то праздничным, только что умытым и прихорошившимся. Но больше всего глаза мои искали девушку. Потом заметил, что стоит ей зачем-либо перейти на другой конец плота, и я туда поворачиваюсь. Ну, не дурак же я — понял, что она мне нравится, да что тут вилять, надо прямо и сказать — влюбился в нее. Ну, я сейчас же гнать эту любовь: какая она мне будет жена, если от другого забрюхатела. Но мало это помогало: стал я замечать, что и с закрытыми глазами чувствую, где она проходит, на какой стороне стоит.
Но и она не слепая была. Как-то раз с ведром черпать воду пошла и остановилась против меня. Губы сжаты, лицо опять хмурое, и говорит:
— Не смотри ты на меня так — ничего не получится.
— Как не получится? Да я женюсь на тебе!
Это у меня вырвалось неожиданно для самого себя — до того у меня в мыслях такого решения еще не было.
— И всю жизнь чужим ребенком попрекать будешь! Не надо мне такой женитьбы.
— Да я… — было начал я, но она перебила:
— Не говори! Видела я, как ты весь побелел, когда дед сказал, что я беременна, — и не дав что-либо ответить, отошла.
Ночью у нас в шалаше фонарь потух — керосин весь выгорел, и запаса нет. Сперва дед обрушился, было, на меня, что фонарь неполный налил, но потом вспомнил, что сам его истратил: поясницу натирал после нашего холодного купанья. Когда на берегу село увидели, приткнулись, и дед меня за керосином послал. Я быстро сбегал, возвращаюсь на плот, а Евдокии нигде не видно. Не дожидаясь моего вопроса, дед и говорит:
— Ушла твоя краля. Поклонилась, поблагодарила за хлеб-соль и ушла… видишь во-он, гляди — дорога на косогоре, вишь красненькое?