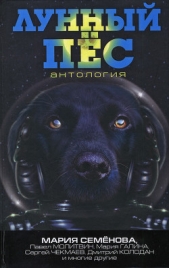Государь всея Руси
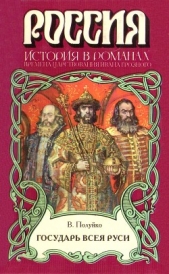
Государь всея Руси читать книгу онлайн
«Таков был Царь; таковы были подданные!
Ему ли, им ли должны мы наиболее удивляться?
Если он не всех превзошёл в мучительстве, то
они превзошли всех в терпении, ибо считали
власть Государеву властию Божественною
и всякое сопротивление беззаконием…»
Н.М. Карамзин
Новый роман современного писателя В. В. Полуйко представляет собой широкое историческое полотно, рисующее Москву 60-х годов XVI в. — времени царствования Ивана Грозного.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
К себе никого не допускал, кроме Малюты и Афанасия Вяземского, которым и повелел «сести на взыск» [219]. А тем рьяности и расторопности было не занимать: он ещё метался по опочивальне, а добрый десяток сродников Заболоцких, от разных колен, уже побывал на дыбе. Но крепче всего вцепились в троицу его двоюродных братьев. Иван, вскоре совладавший с собой, стал и сам спускаться в пыточный застенок. Целую неделю терзали братьев огнём и дыбой. Иван от пыток и допросов совсем успокоился, несмотря на то что так ничего и не добился от Заболоцких. Выстояли они на пытке, вынесли все муки и, если и знали что-то, не сознались, а если не знали — не оговорили ни себя, ни других. Все Ивановы «Отчего?», «Почему?» остались без ответа, оставив в нём запёкшуюся боль невымещенности и бессилия. Правда, служивший при дворе родной брат Ивана Ярого Андрей, которого взяли вместе с Заболоцкими, сказал на пытке, что брат его Иван приезжал на Велик день в Москву и долго допытывался у него про Сатиных и про Данилу Адашева: которым обычаем их в животе не стало, и за что государь положил на них опалу, и не грозит ли та опала кому из сродников или свойственников опальных, и не ходят ли об том какие слухи, и не тревожат ли Заболоцких? Рассказал Андрей и о том, что сознался ему брат в своём смертном страхе: живут-деи они с Володимером с Заболоцким в Переяславле и каждый день ждут на себя опалы черёд родство да свойство́ с Сатиными и Адашевыми. Это признание спасло Андрею жизнь. Иван оставил гнев и великодушно помиловал его, но великодушие это было дьявольское, с расчётом: Андрей оставлялся свидетельствовать, что брат его и Владимир Заболоцкий бежали за рубеж не изменным обычаем, а единственно от недоумия и пустого страха за животы свои. Такое объяснение побега очень устраивало Ивана: смотрите, дескать, знайте, побежали глупцы, недоумки! Что, дескать, с таковых взять?!
Ему и самому хотелось верить в это, но более всего он хотел, чтоб поверили другие. Правда, таким объяснением нельзя было погасить злорадство недругов, которое, знал он, уже воспылало в их сердцах, — таким их только испотешишь, насмешишь. Но он и не для них предназначал это. Для них он предназначил иное — головы троих Заболоцких.
Братьев казнили прилюдно, на торгу, у Лобного места, объявив народу московскому их вины и злоумышления противу государя и отечества. Боярам, окольничим и всякому иному служилому и дворовому чину было велено присутствовать на казни, стоять близ помоста и не разъезжаться до конца. Присутствовали, стояли, не разъезжались, уныло, замогильно глядя на работу палачей и слушая грозное дыхание толпы, и, быть может, самым тягостным, самым изматывающим для них была не сама казнь, а вот эта клокочущая ненависть черни.
В самую последнюю минуту Челяднин не выдержал, кинулся во дворец — к царю. Нелегко ему было заставить себя сделать это: после той памятной ночи в Черкизове, после всего, что он увидел и открыл там в Иване, его начинало трясти от одной только мысли о нём, а уж встречи с ним, разговоры были настоящей пыткой, и он старался избегать их. По этой же самой причине, чтоб не встречаться с ним лишний раз, он дерзнул даже ослушаться его и не поехал к Горбатому. Мстиславскому пришлось ехать одному, что, впрочем, было совершенно зряшным делом. Как и следовало ожидать, Горбатый отказался подчиниться царскому приказу, не проявив ни малейшего желания к примирению, и даже выставил своего зятя вон, когда тот попытался образумить его. Позже, когда голова Горбатого уже будет торчать на шесте возле Лобного места, Мстиславский в порыве угодливой откровенности расскажет Ивану, что тот будто бы ещё и крикнул при этом: «Будьте вы прокляты вместе с вашим царём!» Но сейчас он покуда воздерживался от таких подробностей. Приехав к Челяднину посоветоваться, каким образом сообщить царю об отказе Горбатого, он рассказал только о том, что его выставили, но о том, что было сказано при этом, умолчал. Впрочем, он нисколько не удивил бы Челяднина этой подробностью, да и не омрачил бы слишком, ибо Челяднин теперь очень хорошо понимал Горбатого, сознавал, что тот прав, и принял бы его проклятие как заслуженное. Принял бы! Потому что и сам проклинал себя. Но не потому, что служил царю верой-правдой (так же точно служил ему и Горбатый, а те, кому эта вера-правда была в тягость, и вовсе не судьи ему), и не потому, что прощал, чего не простил бы никому другому, и не потому даже, что, служа ему, нередко шёл наперекор своей душе и совести, — терзался и клял он себя потому, что любил его, да, любил — теперь он уже не хотел себе лгать — и верил в него, в его высокое предназначение, в чистоту его помыслов, в его избранность... Любил, верил и невольно тянулся к нему, как к чему-то близкому, родственному, и восхищался им, и гордился... Гордился — вот проруха-то! И пусть всё это было затаённое, болезненное, мучительное, как тайный грех, как наваждение, но это было в его душе, в его сознании. И оттого что этого теперь не стало, ему ничуть не легче. Наоборот, на душе у него теперь двойная тягость — и оттого, что это было, и оттого, что этого теперь нет.
Наверное, его не так бы одолевала эта тягость, а может, и вовсе не одолевала бы, если бы на смену всему тому, что он испытывал к Ивану, пришли презрение, вражда, ненависть. Но ничего этого не было в нём ни сейчас, ни раньше, даже в самые трудные, самые болевые годы их размирья, в годы его опалы, ссылки, а бунтовал, смутьянничал, противился ему и восставал против него он больше из строптивости, разумом же, духом был всецело с ним. Теперь же именно они, разум и дух, восстали в нём и вместо ненависти и вражды, которые могли бы облегчить ему душу, ослепив, одурманив её, пробудили в нём такие силы, такой глубинный, мучительный протест, что никакие иные силы, земные и небесные, отныне уже не могли заставить его смириться с тем, с чем он смирялся до сей поры. И протест этот был не только против одного Ивана. Это был протест против вся и всех, в том числе и против себя самого, ибо он вдруг отчётливо понял, что зло, ужаснувшее его в Иване, это не какое-то отдельное зло, особенное, исключительное, живущее и плодящееся только в нём одном, — он понял, что зло это — общее, зло всех, а Иван — лишь олицетворение его, лишь место, средоточие, как нарыв, как гнойник, где оно собирается, скапливается и, накопившись в избытке, вырывается наружу. И нет жертв этого зла — теперь он понимал и это, — есть только родники, питающие его, и даже те, кто восстаёт и борется против него и гибнет в этой борьбе, — тоже не жертвы, ибо и их оружие — зло, которое порождает новое зло, умножает его и вооружает страшной, кощунственной правотой, имя которой — возмездие! Не отмщение, а именно возмездие! И чем, чем и как опровергнуть её, эту страшную, кощунственную правоту? Какой правдой, какой истиной, если даже высшая истина двояка, если на священной скрижали на одной стороне начертано: не противься злому и ударившему тебя по ланите подставь другую, а на другой стороне: око за око и зуб за зуб? И где искать ответ на это — в себе ли самом или вне себя? И что такое человек, чтоб ему посягнуть на такое и искать какую-то иную, первородную правду? Что он ещё разрушит в себе или что обретёт, найдя ответ ещё на один вопрос? И не может ли так быть, что и сила, и правота человеческая, и ответы на все вопросы — в одном: в смирении самого себя? «К Богу придёшь ты!» Эти слова, сказанные ему монахом в Саввино-Сторожевском монастыре, не забывались, не уходили из сознания, и, быть может, как раз они и порождали в нём мысль о смирении, ибо всё это время — от той поры, когда он услышал их, и до той, когда переступил порог царской опочивальни в Черкизове, — он воспринимал их лишь в одном, прямом смысле: к Богу — значит, в монастырь. Теперь эти слова обрели для него совершенно иное значение. Они стали для него приговором, прозвучавшим как бы из уст самого Христа, перед ликом которого они были произнесены. Но не только приговором. Они стали и высшим откровением, гласом истины, его возродившейся свободой, ибо он наконец-то пришёл к своей внутренней правде и понял, что всю свою жизнь уходил от Бога, а равно и от себя самого, от своей души, от своей совести, от всего того, что могло освободить, но не освободило от пут иных, низких, житейских истин, и делал это, и поступал так единственно потому, что всю свою жизнь уклонялся от окончательного выбора. Теперь он сделал это. Та жуткая ночь в Черкизове, всё случившееся там, пережитое, передуманное предопределило и ускорило этот выбор. Отвергнув Ивана, он отверг и его противников и выбрал то, во имя чего готов был теперь пойти и на смерть, — он выбрал правду и справедливость, и не справедливость вообще, не праведность как непосильный предел, но ту правду и ту справедливость, которые были под силу ему и в которых он уже не мог ошибиться, как ошибался до сей поры, принимая зло за добро и мня себя правдоборцем, будучи на самом деле обыкновенным противлением, строптивым и надменным.