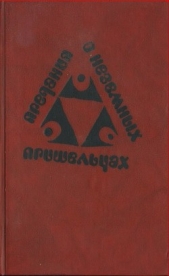Встреча. Повести и эссе

Встреча. Повести и эссе читать книгу онлайн
Современные прозаики ГДР — Анна Зегерс, Франц Фюман, Криста Вольф, Герхард Вольф, Гюнтер де Бройн, Петер Хакс, Эрик Нойч — в последние годы часто обращаются к эпохе «Бури и натиска» и романтизма. Сборник состоит из произведений этих авторов, рассказывающих о Гёте, Гофмане, Клейсте, Фуке и других писателях.
Произведения опубликованы с любезного разрешения правообладателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но мысль друзей работает дальше. Пожалуй, неразумно будет сразу сжечь письма Крейцера к «усопшей» — «ибо, как знать, не окажется ли в них вдруг надобности»; говоря по-простому — не понадобятся ли они ему как доказательства его невиновности. Расчет, который мы не вправе порицать: так по крайней мере до нас смогли дойти хотя бы письма Крейцера, за исключением немногих, особо компрометирующих. Верный и благочестивый кузен Леонгард берет их на сохранение. «И больше я предпочел бы ничего о них не слышать».
Окончилась ли наконец трагедия?
Не совсем. Занавес поднимается еще раз. Будет эпилог; этим приложением мы обязаны прискорбному обыкновению поэтов оставлять по своей кончине исписанную бумагу — вверять ее надежным рукам потомков. Те могут иной раз — по злому умыслу или по небрежности — убить мертвеца повторно. В особо тяжелых случаях их агентами, их делопроизводителями оказываются те же самые лица, которых сам автор, в слепой своей доверчивости, назначил душеприказчиками. С Гюндероде как раз такой тяжелый случай.
Она послала другу Крейцеру в январе 1806 года свое новое сочинение под заглавием «Мнемозина», чтобы тот его издал. Крейцер ей отвечает:
<b>«Ты не можешь вообразить себе, как обрадовался я твоей идее с этой книжицей, „Мнемозиной“, и какое это блаженство для меня — видеть столь блистательно увековеченной любовь Отшельника и Друга. Ты спрашиваешь, смогу ли я ее издать. Да может ли быть забота более милая моему сердцу? Но ты верно замечаешь, что тут надобно соблюдать величайшую скрытность».</b>
Подробно распространяется он о заголовке и псевдониме. Когда Гюндероде, вопреки его советам, продолжает настаивать на псевдониме «Ион», он в конце концов соглашается: «Что ж, Иония — родина поэзии. Да, наречем это дитя Ионом». Зато она принимает его предложение о заголовке: они озаглавят этот томик «Мелета» — по имени музы опыта. Разве можно представить себе дело издания произведения в более надежных руках?
Среди писем Крейцера есть такие аналитические, компетентные и конструктивные, каких только может желать поэт от друга, поэтесса от возлюбленного. О метрике и шлегелевской философии, о поэтессах, пишущих по-латыни, о достоинствах и слабостях их сочинений — о чем только он не пишет Каролине, и это все суждения, с которыми вполне согласился бы и современный критик. Не драма, говорит Крейцер, и уж тем более не мещанская драма ее стихия, а лирика, миф, легенда. Этот человек понимает, что ему доверено, и он даже пугается духовного превосходства своей возлюбленной:
<b>«Горе мне! Разве наберусь я теперь мужества ребячески подшучивать над тобой, добиваться от тебя покорности в любви (а ведь все мужчины только этого и добиваются) — где уж мне пред лицом такой мудрости! Твой Эвсебио устрашен. Уж подлинно тебе придется прикинуться глупышкой, когда я приеду, и нежной шаловливостью вернуть мне мужество. Отбрось свое великолепие — иначе свидание с тобой мне будет не в радость».</b>
Можно ли, дозволительно ли предположить, что этот комплекс неполноценности, испытываемый мужчиной по отношению к женщине, в духовном развитии не уступавшей ему, впоследствии, неосознанно для него самого, повлиял на его действия?
Но на первых порах он энергично продвигает издание «Мелеты». 23 февраля он уже может сообщить подруге: «„Мелета“ продана — прямо здесь, Циммеру и Мору». Он обосновывает выбор именно этого издательства (в котором, кстати, появился и «Волшебный рог мальчика»), обсуждает предлагаемый гонорар — «карлин за лист»: «Чем глубже я ощущаю внутреннюю ценность сочинения, тем менее я способен торговаться о внешней цене». Все идет прекрасно. Только книжка так никогда и не вышла. Крейцер сам — ведь он предвидел, что его «все больше и больше будет засасывать тина будничной жизни»! — сам изымает после смерти сочинительницы рукопись Иона: редкостный случай даже в столь богатой поразительными казусами и извращениями истории немецкой цензуры и самоцензуры. Причина? Самая элементарная: личная выгода. «Видите ли, Дауб с помощью неопровержимых доводов… убедил меня в настоятельной необходимости сокрытия этого манускрипта». Убожество снова взяло верх. Сбылись фантастические кошмары Каролины.
И вот, против воли захваченная абсурдной логикой этого процесса, уже думаешь: слава богу, что она до этого не дожила; она бы, наверное, сошла с ума; она-то ведь не была так, как мы, приучена историей и литературой последующих ста семидесяти лет к тем странным операциям, которые господствующая мораль проделывает над теми, кто ей не подчиняется.
А книга? Пропала на долгие годы. Через пятьдесят лет после смерти Гюндероде, в первом «полном собрании» ее сочинений о «Мелете» речи нет. Не упоминается и имени Крейцера: следы, похоже, удалось замести основательно. Требуется вмешательство случая: каким-то невероятным образом, чудом, один-единственный экземпляр книги, состоящий частично из корректурных листов, частично из страниц рукописи, занесло в замок Нейбург под Гейдельбергом, где его сохранили. Лишь в 1896 году заинтригованной литературной общественности было сообщено о его существовании, опубликованы несколько отрывков из книги. В 1906 году она впервые была полностью издана в 400 экземплярах — тем же издателем, доктором Леопольдом Гиршбергом, что выпустил в 1920 году прекрасное полное собрание сочинений Гюндероде.
Крейцер был прав: эта книга, с ее уже неистребимыми текстами, — беспрерывное объяснение в любви, вновь и вновь обращаемое к нему — к «ангелу-хранителю», к «единственному», к «Эвсебио». Она делает его бессмертным — отличие, до которого он не дорос. Мы, знающие историю этого томика, не без щемящего чувства прочтем «Посвящение» к нему:
И все же: кто дерзнет заклеймить его гневным словом «недостойный»? Осудить его за то, что он хотел жить — имея перед глазами горький пример той, что не смогла пойти на требуемый компромисс? Он желал одного — мира, покоя. И вовсе не покоя могилы. Гюндероде хорошо понимала, что с ним происходит: «Ты стал чужеземцем в кругу своих близких, с тех пор как нашел родину в моем сердце».
«Мне родиной земля, увы, не стала».
Едва ли мы — потомки — сможем отменить этот приговор; не столь уж часто и в наше время встретишь такую жажду цельности, абсолютности, глубины и истинности чувства, слишком пугает ее бескомпромиссность в стремлении привести в гармоническое согласие жизнь и творчество.
Воспринять ее сочинения нелегко, особенно из-за их непривычного для нас мифологического одеяния. Как поэт она, конечно, не успела достичь вершины своей зрелости; в ее трагедиях и одноактных драмах, которые посвящены грандиозным темам («Магомет») и которыми она дорожит, изображены вместо живых персонажей бледные схемы, сюжеты часто надуманы — лишь для того, чтобы выразить ее идеи, ее мировоззрение. В стихотворении, в лирической философской прозе она великолепна. Ее язык пленяет трогательной красотой, но чаще ее возвышенные замыслы вступают в противоречие с имеющимися в ее распоряжении формами; это справедливо и в переносном смысле — по отношению ко всей ее жизни.
Равно отличаясь и глубиной чувства, и остротой ума, она не может удовлетвориться ни холодной рефлексией, ни расплывчатым лирическим излиянием. Пропасть между этими полюсами своей натуры она преодолевает своим творчеством. Она ощущает себя лишь тогда, когда пишет или любит. Творчество и любовь — вот два единственно подлинных выражения ее существа. Ее письма тоже принадлежат к ее творчеству, и, лишь зная ее жизнь, мы правильно прочтем и поймем ее стихи. Если ей суждена долгая жизнь, то прежде всего как человеку и поэту, до конца испившему чашу отчаяния и отчуждения.