Гулящие люди
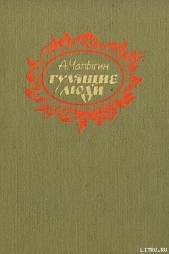
Гулящие люди читать книгу онлайн
А. П. Чапыгин (1870—1937) – один из основоположников советского исторического романа.
В романе «Гулящие люди» отражены события, предшествовавшие крестьянскому восстанию под руководством Степана Разина. Заканчивается книга эпизодами разгрома восстания после гибели Разина. В центре романа судьба Сеньки, стрелецкого сына, бунтаря и народного «водителя». Главный объект изображения – народ, поднявшийся на борьбу за волю, могучая сила освободительной народной стихии.
Писатель точно, с большим знанием дела описал Москву последних допетровских десятилетий.
Прочитав в 1934 году рукопись романа «Гулящие люди», А. М. Горький сказал: «Книга будет хорошая и – надолго». Время подтвердило справедливость этих слов. Роман близок нам своим народным содержанием, гуманистической направленностью. Непреходяще художественное обаяние книги.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Боярыня часто и тяжело дышала. Спросила:
– Чего молчишь? Ты не веришь, что я восстану?
– Верю.
– Ох, где мои волосы? Искрами горели они, а нынче их болезнь съела. Где моя грудь? Руки – разве они те, кои рылись в твоих кудрях?
– И я уже не тот, боярыня! Не тоскуй даром.
– Я поправлюсь – будешь ли любить меня?
– Буду крепко любить! – Сенька чувствовал, что надо утешить ее.
– Ой, спасибо! Ой, милый ты мой, ты постарел мало… ты не тот… И пошто пришел глянуть на скорбную твою любовь?
Улька не знала, что Сенька любил когда-то боярыню, а дурка сватьюшка ей того не говорила и звала Сеньку:
– Може, она при конце живота? От виду сильных людей больным легчит.
Сенька, перед тем как идти к боярыне, зашел на ее двор. Нищие люди, крепостные, обступили Сеньку:
– Пойдешь к боярыне, служилой, попроси за нас!
– Не одевают… не кормят… отощали! При конце живота многие бояра людей отписывают монастырям, нас же проси на волю спустить. Може, и боярыне оттого полегчает.
– Молчишь? – шептала Сеньке боярыня. – Молчи… Мне с тобой радошно.
– Молчу, боярыня. Люблю тебя, думаю свое.
– Что же ты думаешь… помру?
– Нет, не помрешь, а все же ради правды тебе надо быть доброй.
– Я не зла.
– Знаю, с добрыми ты добрая. Вот глядел я твою дворню и видел неправду: пошто твой боярин держит такую дворню? Не одевает ее, не кормит, и копится оттого воровство и, худо сказать, что убойство.
– То правда, милый. А как поправить?
– Отпустить голодных людей на волю, хлеб найдут работой.
– Ой, Сенюшка! Правда! А я и не подумала… Завтра же позову из Холопьего приказу подьячего, велю отпускную им написать.
– Великое спасибо за голодных людей! Я сам к тебе приду на днях и отпускную напишу, а ты подпись дай.
– Дам, милый, дам! Приходи, ждать буду.
Боярыня положила ему, склонившемуся близко, на плечи тонкие руки. Она плакала, и голова ее упала.
– Не плачь, боярыня! Пошто слезы?
– Ой, слезы мои от радости, что довелось видеть тебя, жива и цела… и все то вспомнила, как был приголубником моим… все, все… И еще плачу оттого, что близко ты, а нету силы обнять тебя.
– Ништо… поправишься… Поправишься, верю я!
– Теперь, милый, подыми… сведи на постелю… в глазах тускло.
Сенька встал, бережно подсунул руки, снес больную, как пушинку; откинув одеяло, положил и прикрыл ее голубым шелком. Когда он укладывал ее, она поцеловала его в щеку.
– Ой, спасибо! – сказала она слабо, чуть слышно, и еще: – Говорила не раз боярину: «Нипошто держишь такую дворню… нище? Томишь людей…» Да разве он думает о людях? И не он один таков. Иди, – мне же спать.
Сенька вышел. Улька давно ушла к себе. Дурка-сватья проводила его до двери, и они, молча поклонившись, расстались.
Сеньке было грустно. «Давно ли, – думал он, – была красна лицом и телом… Эх, ну же!» Он зашагал по улице, она мутно желтела снегом, чуть искрясь от блеска большой хвостатой звезды; вместо месяца звезда стояла высоко в небе, и свет от нее был недвижимый, ровный, как от невидимой свечи, завешенной тонкой прозрачной тканью.
Была уж отдача дневных часов [280], звонили к вечерне. Боярин Никита Зюзин кончил сидеть в Судном приказе, сторож зажег перед образами лампаду. Боярин перекрестился, не глядя на казенный с облупленными красками образ, держа шапку и трость в левой руке. Выходя из своей в дьячью палату, шапку надел и трость взял в руку крепко. Нахмурив лохматые брови, оглядывался на писцов. Подьячие еще сидели за длинным приказным столом, иные чинили перья, а кто подливал чернил из общей бутыли в поясную чернильницу, иной с деловым видом глядел в замаранный черновой столбец и ковырял пальцем в бороде.
Все еще косясь по сторонам, боярин проходил палатой медленно. С конца стола встал один подьячий, поклонился боярину и, бойко ковыляя на кривых ногах, отворил дверь в сени.
Не глядя на отворившего дверь, Зюзин спросил:
– Был ли без меня кто в приказе?
Косолапый, проковыляв по сеням, отворил с треском дверь на крыльцо, ответил:
– Дьяк государев Алмаз Иванов был, боярин.
– Нехорошо… Алмаз Иванов? А я и не был… Нехорошо!
– Того-сего… я ему молыл: боярин замешкался, дома у него боярыня недужит… так-то…
– Сказал ладно. Что же думной дьяк говорил?
– Того… што ему говорить? Жаль-де, не застал Никиты Алексеича, дело есть… Так-то…
– Ты, Тереха, ведаешь, какое у дьяка до меня дело?
– Нам и нельзя того ведать, боярин, да ведаю… того…
– Говори.
– Не смею, того-сего, о том деле молыть: нам, малым людишкам, за то батоги бывают.
– О государе, я чай?
– Того-сего, о государе-царе, боярин!
– Все мы тут люди служилые, не поклепцы на друга, – говори, Тереха!
Боярин на крыльце за дверью приостановился, подьячий стоял, просунув лохматую голову в приотворенную дверь.
– А сказывал дьяк, сходя тутотка с крыльца, боярину Троекурову– той боярин его у крыльца ждал – што-де государь крепко патриярха Воскресенского сожалеет… к нему-де от патриярха Ерусалимского, Нектария, письмо о Никоне есть, – просит простить… Государь Никона восхвалял, а Аввакумку ямой грозил… был-де гневен на раскольников… так-то…
– Ты явно такое слышал?
– Явно, боярин… так-то…
– Вести эти и я слышал не раз. О Нектарии слышу впервые. Л ты, Тереха, молчи и смотри – ни слова про то…
– Молчу, боярин… так-то… – Подьячий запер двери, идя, сказал тихо: – Сам, как Тараруй Хованский, многоязычен, меня же просит молчать… так-то…
Звон колокольный, звездное небо, и среди звезд звезда хвостатая, бледная, немного изжелта, и светит мало.
– К радости нашей эта звезда. Эх, попировать бы по-старому!
Снег мягкий, не тронутый ростепелью, легко запятнанный шагами людей. Широкой грудью вдохнул в себя боярин холодный, благодатный воздух и почувствовал, как он напоил его будто ключевой водой, и было такое особенно приятно после вонючего и спертого духа Приказной палаты.
«Малка извелась. Ништо – коли чуть протянет, помрет – возьму другую жену… да воли ей такой не дам, какую Малке дал, – думал боярин, медленно идя к Никольскому крестцу. – Эх, господи! Коли удастся друга вернуть, сослужим тебе молебен! Вернуть его да посадить с прежней честью в патриарших ризах! И ведь иные бояре то же, что и я, мыслят…»
– А это кто? Он? Он!
Боярин глубже надвинул на голову высокую бобровую шапку и крепче зажал в правой руке дубовую трость.
Навстречу к Троицким воротам шел Сенька. Сенька хотел обойти боярина, свернул было в сторону.
– Эй ты, холоп! У меня был?
– Я стрелец, а не холоп!
– Ты не вирай, черт! У меня был?
– Хотя бы и у тебя… чего кобелем борзым глядишь? Любить у тебя некого…
– Не погань моего крыльца! – Боярин, подняв трость, кинулся на Сеньку.
Сенька, с виду неповоротливый, взмахнул саблей. Трость боярина переломилась, он бросил ее и, сверкая глазами, отступил.
– Кабы оружный ты был да в броне, нарубил бы из тебя мяса! – крикнул Сенька.
– Гилевщик окаянной! – заорал боярин, скрипя зубами, и отступил на дорогу. – Ужо в Земском приказе поглядим, кто ты. Сыщем! Не был ли в Медном бунте?
У Сеньки коротко мелькнуло в голове: «Изрублю дьявола!» Но он сдержался, пошел дальше.
– Не тамашись, боярин! Спит она… – сказала у дверей дурка-сватья.
– Шишей всяких водишь в дом! Блудня-а…
Боярин, размахнувшись, хотел дать тумака шутихе. Она присела, удар не тронул ее. Боярин пнул дверь, дверь с треском распахнулась. В желтом полумраке, в углу под образами с зажженными лампадками, на кровати зашевелилась больная, закашлялась, а когда боярин подошел близко, сказала:
– Чего ты, Никита, как на базар едешь? – Зачем здесь был твой приголубник?
Дурка-сватья заперла распахнутую дверь, проскользнула мимо боярина в угол, за кровать.
Боярыня молчала, закрыв глаза. Боярин снова крикнул:


























