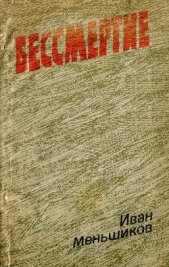Солона ты, земля!
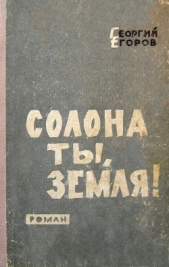
Солона ты, земля! читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Данилов слушал ее с недонесенной до рта папиросой.
— Я вот восемнадцать лет прожила… с Большаковым. А все чегой-то ждала, в мечтах думала о какой-то другой жизни. Спроси меня тогда — толком бы и не сказала, о какой. Сейчас вот только поняла — об этой вот мечтала… об нем вот.
А ночью, прижавшись к плечу Дмитрия, шептала:
— С души у меня словно крышку сняли. Светлее стало там… Ты видел, как почки на дереве лопаются? Вот и у меня раскрылась душа… — Она вздохнула. — И ни за что теперь уже не закрыть ее никому. Не могу я уже по-старому жить.
И действительно, Дмитрий видел, как выправляется Поля. Сейчас она уже совсем не та, что в первый приезд. Изменилась не только ее осанка, но и душа стала тоньше, чувствительнее. На удивление удалось ей сохранить чистоту чувств в течение почти двух десятков лет. Дмитрий вспомнил, что где-то читал о каком-то дереве — кажется, это дерево называется агава, — которое цветет один раз в жизни. Так, наверное, и человек, тоже цветет один раз. Иные в юности отцветают, а другие, такие, как Поля, видимо, долго хранят в себе эти ростки, ждут и ищут подходящей среды, чтобы расцвесть в полную силу!
Проснулся он на восходе солнца. Приподнял от подушки голову, посмотрел на спящую безмятежным сном Полю. Косые лучи скупого осеннего солнца, выглянувшего впервые за много дней, играли в ее волосах, разметанных на подушке. В эту минуту она была похожа на раскрывшуюся нежную белую розу. Лицо было задумчивое, счастливое. Дмитрий смотрел и не мог насмотреться. Под его взглядом шевельнулась Поля, дрогнули ее сомкнутые ресницы. Она проснулась. Еще не открывая глаз, улыбнулась счастливой сонной улыбкой, ощущая на себе, как и солнечные лучи, любящий взгляд.
4
В эту осень погода действовала на Ларису как никогда раньше. Хмарь стояла не только на дворе, но и в душе. Жизнь ее была затянута грязными беспросветными тучами, и ни один лучик солнца не проскочил в ее душу на протяжении последних месяцев.
Для нее жизнь померкла в то утро, когда арестовали Милославского. После этого редкий день проходил без слез.
Она не верила, что Милославский — колчаковский офицер, не верила, что он со шпионским заданием был среди партизан. Она считала, что произошло какое-то недоразумение. После встречи с ним в кабинете Титова это убеждение укрепилось еще больше. Сомневалась она только в одном: не мог Данилов так жестоко мстить. Но ведь ради любви идут на все.
Были моменты, когда она сама действительно верила этому. У нее появилась злоба на Данилова. Даже в смерти Милославского она пыталась найти повод обвинить Аркадия. И вдруг после этого ее вызвал к себе начальник контрразведки Коржаев. Он попросил принести все золотые вещи, даренные ей Милославским. Потом показал ей напильник. Лариса узнала его сразу. Насажанный на деревянную витую ручку отцом Аркадия Николаевича года два назад еще для мосихинской больнички, он был известен всему обслуживающему персоналу госпиталя. Это и подтвердила Лариса. Она не понимала значения напильника в руках начальника контрразведки. Ничего не сказал ей и Коржаев. И только через неделю ее как громом ударило по сердцу: арестованный Титов при ней повторил на допросе у Коржаева свой разговор с Милославским об этом напильнике. Она вышла из кабинета шатаясь, не видя ничего перед собой. Нет, это неправда, это все подстроил Титов или еще кто-то. Неправда, и то, что он дарил ей украденные из отрядной казны золотые вещи. Не может ее Миша так сказать и так поступить, она лучше их всех его знала. Он не такой! И мысли снова невольно поворачивались к Данилову.
Это было страшное испытание. В течение недели Лариса сильно похудела, у нее обтянулись ключицы, осунулось лицо, глаза окаймились темными дугами. От прежней пышности не осталось и следа. Это видели все. Кое-кто сочувствовал, но немало было и таких, что злорадствовали — так, мол, и надо. Иван Коржаев пригласил Ларису к себе еще раз и, видимо, решил помочь ей. Он понимал ее состояние. Начальник контрразведки рассказал ей, что следствием выяснена принадлежность Милославского к колчаковской милиции, что он действительно был шпионом и провокатором, специально подосланным, чтобы внести раскол в партизанское движение, что Филипп Кочетов признался, что Белоножкина они убили по указанию Милославского. Говорил он и видел, что не верит этому Лариса, понимал: трудно ей согласиться с его словами. Тогда он достал личное дело Милославского и протянул его ей.
— Посмотрите сами.
И Лариса дрожащими руками стала листать дело. Да, тут сомнения не было. Вот его фотокарточка: вздернутая кверху голова, пухлые щеки, нос с горбинкой, только усы и большая шевелюра были непривычны. А так, конечно, — он. Уж она-то знала каждую черточку на его лице. Это был он, ее Михаил, в погонах штабс- капитана… Лариса смотрела, и погоны стали расплываться, сливаясь с самодовольным лицом, — слезы застилали глаза. Потом одна за другой крупные капли упали на папку. Коржаев не мешал ей. Она смотрела долго. Не листала дело, не читала характеристик и послужного списка, а только смотрела на фотокарточку. Она не проклинала Милославского, не жалела Данилова. Она была далека от всего этого. Ей было жаль себя, обидно до слез, что самые чистые порывы своих чувств она отдала проходимцу.
Всю ночь проплакала Лариса. Утром она ушла за село, долго бродила бесцельно. Потом, обессилев, села на почерневший пенек недалеко от одинокой сосны. Высокая, наполовину голая, с множеством зарубцевавшихся ран на шершавом теле, она казалась круглой сиротой вдали от бора, изгнанницей. Лариса вдруг подумала: что-то есть общее в одиночестве у нее с этой сосной.
Искорёженная рубцами сосна чем-то напоминала Ларисе её такую же исковерканную жизнь.
Долго и бездумно смотрела Лариса на черный силуэт сосны, что-то печально шептавшей на ветру. Сама не замечала, как подсознательно отводила взгляд от торчащего сбоку, как обрубок руки, короткого толстого сучка. Что-то нехорошее навевал на нее этот сук. Она отводила глаза, а они снова и снова возвращались к нему и мерили расстояние от земли до него. И вдруг поняла, чем притягивал ее этот сук. Поняла и содрогнулась. А через минуту снова посмотрела на него. «Если взобраться на пенечек, перекинуть веревку, то ноги не достанут до земли». «Но ведь веревка вытянется», — подсказывал ей кто-то, «Можно подогнуть колени, тогда не достанут».
Лариса очнулась, вздрогнула и похолодела. Хотела встать и пойти домой, но не было сил. Так она просидела в забытьи до утра. Когда невдалеке пастух прогонял по доpoгe табун, она, дрожа от сырости и осенней стужи, поднялась и, шатаясь, как пьяная, побрела в село. Ноги у нее были деревянными, непослушными. «Вечером прихвачу чересседельник, — твердила она одно и то же. Она шла, натыкаясь на плетни, словно впотьмах. Наконец вышла на грамотинскую дорогу, повернула в улицу.
Здесь ее обогнали на бричке два партизана. Лариса случайно услышала: «Говорят, в седьмом полку комиссара убило. Вроде бы перед самым боем в Павловске у кого-то граната разорвалась. Следствие сейчас идет, будто бы не случайно она разорвалась…»
Сказал партизан и проехал дальше. А Лариса остановилась, как оглушенная. Долго стояла так посреди улицы. Потом вспомнила: среди раненых есть паренек из седьмого полка, он, кажется, в этом же бою ранен.
И Лариса кинулась в палату к Василию Егорову, чтобы расспросить об их комиссаре.
5
По вечерам Насте девать себя было некуда. Она боялась одиночества, боялась своей квартиры, где все напоминало о Фильке, об его аресте. Поэтому она почти совсем перешла в госпиталь — здесь и спала в перевязочной на кушетке. А вечером после дежурства приходила в палату к Василию Егорову, и они подолгу сидели, беседуя обо всем. Василий никогда раньше не разговаривал серьезно с девушками — не то стеснялся их, не то считал это делом легкомысленным — сам не знал. А скорее всего потому, что просто не встречались ему такие, с которыми можно было поговорить о жизни, о делах. Сам же потребности в этих разговорах не испытывал.