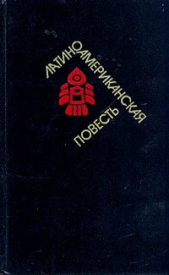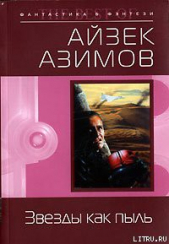Мы не пыль на ветру

Мы не пыль на ветру читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Как можешь ты осенью говорить о весне, Генрих, мой гадкий Генрих! Ведь за осенью идет зима: ледяная каша на дорогах, мерзлые травинки по обочине, холод поднимается от ног к рукам, бесплодие, великое бесплодие…»
Скрюченная рука Леи перестала терзать скатерть. По пальцы были все так же судорожно скрючены. Склонясь над столом, застывшая, недвижная, строптивая, стояла она против Хладека и, как прежде, проталкивала слова сквозь стиснутые зубы.
— Но едва лишь глупая Лиза поверила гадкому Генриху, едва лишь она положила руку на его плечо, старики прислали ей одеяло — для согрева. И завернули в это одеяло свои премудрые теории о причинах насморка. Он-то и доконал Генриха…
Хладек высвободил руки из жилетных вырезов и подошел к столу.
— Да, я слышал, о чем пан Буден шептался с нашей Ханхен, когда Тео играл на виолончели. Играл Дворжака и, как всегда, целиком отдавался музыке. Слышал, но ничего не сказал и ничего не сделал. Я видел даже, с какой охотой убежала Ханхен. Впрочем, это к делу не относится. Если ван Буден не желает видеть тебя с немцем, который еще вчера был фашистом… Ну что ж, я могу его понять, он в своем праве, он называет это естественным правом. Ты, в конце концов, его родная дочь…
Лея пронзительно рассмеялась.
— Естественное право! И это говоришь мне ты, Хладек?! Вот уж от кого не ждала!.. Да чем, по сути дела, отличается это так называемое «естественное право» стариков от расового учения господина Розенберга, от «мифа двадцатого столетня»? Нет, пустн меня!
Лея сказала «пусти меня», потому что Хладек хотел взять ее за руку. Она отдернула руку и выпрямилась, в эту минуту она стала его врагом, и враждебность ее была не обычная враждебность больного к здоровому. Хладеку пришлось сделать над собой усилие, чтобы не показать ей, как обидел его резкий и откровенный жест недоверия.
— Ты не совсем точно представляешь себе ото понятие, — сказал Хладек. — Ты вообще почти ни одного понятия не представляешь себе точно. Ты неверно понимаешь ван Будена, неверно — меня. Разумеется, правовые нормы, пусть даже самые идеальные, не могут предшествовать жизненной практике, но взаимодействие возможно. Я, во всяком случае, признаю его…
Рука Леи вновь коснулась тканых квадратов скатерти. Указательный палец заскользил по лесенкам узора: вверх — вниз, вверх — вниз.
— Довольно, Хладек! Ты наскучил публике. Лучше расскажи, чем кончится твое шуточное представление. Что будет с Генрихом и Лизой? Неблагодарный партер освистал тебя. А жаль, актеры недурно справились с ролью. Вот только сочинитель подкачал: он утаил историю с одеялом и, кроме того, утаил… Впрочем, откуда ему знать: оказывается, на свете есть другая глупая Лиза, и она тоже живет в нетопленом домике Генриха, но она молодая и ядреная, она потеряла в войну невинность и — все остальное: родителей, братьев.
Хладек отступил к роялю — словно хотел отойти на приличную дистанцию от этой нескончаемой иронии, за которой он, помимо прочих скорбей, угадывал еще отчаяние и ревность. Но Лею не смутило его отступление; заварив свою кашу, она продолжала подсыпать в нее жалобы и страх, упрямство и самовлюбленность.
— Гадкий Генрих привез домой младшую глупую Лизу, он думал, что старшая глупая Лиза погибла в лагере. Основной конфликт пьески, милый мой сочинитель, состоит не в том, что после великого пожара наступил великий холод, нет, нет, отнюдь не в этом. Конфликт состоит в комическом подтексте: оказывается, наш опаленный, обнищавший Генрих считает своим долгом выбирать между двумя опаленными, обнищавшими Лизами. И верный своей верности, он совершает ошибку и выбирает старшую Лизу, совсем уж обуглившуюся, и при этом смотрит назад, туда, где осталось Прошлое, а выбирает он из чувства мещанской порядочности под покровом ночной тьмы, когда все кошки серы, когда совы расправляют крылья. Вот погодите, придет долгожданная весна, светлая весна, он еще наплачется из-за своей порядочности, уж я ему твержу, твержу об этом — а он не верит. Ибо старшая глупая Лиза, поверь мне, Хладек еще недостаточно стара, чтобы обладать мудростью стариков, но достаточно стара, чтобы обладать горьким опытом опаленных, право же, предостаточно…
Теперь, думает Хладек, теперь она рассуждает, как ребенок, который при резях в животе кричит, что никогда, никогда больше ничего не будет есть. Хладек чувствует, как тает его гнев, а Лея с жаром продолжает:
— Нет, старшая глупая Лиза не позволит распилить свою палку-ходилку, не захочет и не позволит — из горького опыта. А гадкий Генрих силой пытается отнять у нее палку, потому что помешался на порядочности и вдобавок продрог до костей. Вот как надо доиграть пьеску, Хладек. Вот тебе истинный конфликт, ну как, идет?
Нет, такой вариант Хладека, разумеется, не устраивает. Он снует по кривому закоулку между круглым столом и роялем, теперь вместо четырех пальцев он засунул в вырезы жилета большие пальцы. Ах, как грубо, как бестактно получилось — разыгрывать перед ней кукольную комедию и выпытывать у нее про этого Руди. Когда облака нависли так низко, что задевают крыши домов и головы людей, не следует зажигать фейерверк. Но как же иначе помочь человеку, девушке, которую изувечили нацисты, которая видит мир глазами, распухшими от слез, затуманенными ненавистью и разочарованием, только такими глазами, и все — даже новое, даже хорошее — воспринимает лишь через тиски болезненного сознания. Можно ли такому человеку помочь юмором? Ей — нет. Она еще не одолела прошлое. Она рассуждает о европейском духе, а сама настолько немка до мозга костей, настолько Гретхен гестаповских застенков, что вскоре захочет иметь дело только с потусторонними силами: ведь у немцев слишком много путей ведет от депрессии к мистицизму.
Она увлекается псалмами, она может, по словам Фюслера, отбарабанить наизусть всего Тракля. И картину написала — отвратительное крикливо-пестрое смешение треугольников, четырехугольников, квадратов и линий, извилистых, как лента серпантина, что твой «Остров мертвых», где скорбные кипарисы и тоскливый перебор гитары, а под ними — белоснежная и прекрасная птица, изнемогающая в смертной тоске.
— Будь я из ранних коммунистов, а не из поздних, тогда было бы проще, — говорит Хладек и все снует по извилистому закоулку между столом и роялем, — тогда сострадание к попранному, измученному существу не так глубоко потрясало бы мой разум, тогда старый, как мир, извечный крик боли de profundis [39] не так жестоко терзал бы мои нервы, тогда можно было бы взглянуть на исконный трагизм и убожество жизни со стороны и без компромиссов служить праву, единственно верному человеческому пониманию права, которое проверяет истинную цену и потребности человека его полезными и прекрасными способностями, а не толщиной кошелька и не формой черепа, тогда возможно было бы…
Хладек останавливается. А палец Леи снова блуждает по квадратам скатерти, и Хладек снова приходит в раж. Волнение подгоняет его мысли, заставляет перескакивать через более тонкие и тактичные доводы, забыть про чувство некоторой неловкости, волнение делает грубым.
— Тогда, — продолжает он, — тогда было бы возможно без обиняков сказать, что ты ведешь себя, как болотная курочка. Если мне не изменяет память, так называют бекасов, которые своим блеянием сбивают человека с толку и в которых очень трудно попасть, потому что летают они, по рассказам охотников, быстрей, чем черт вокруг колокольни, когда заслышит «ave Maria».
— Ах, значит, я курочка? И на том спасибо… — Лея произносит это с деланным равнодушием, и в первый раз на ее лице мелькает какое-то подобие улыбки.
Хладек понимает, что этого не надо было говорить. Но сейчас не время извиняться; он чувствует, что задел ее за живое, и продолжает в том же духе:
— Лея, ну что с тобой творится? Неужели ты ничего не хочешь или не можешь понять? Что у тебя — недоброжелательство или просто нежелание? Неужели нацисты «доконали» тебя? Так, что ли, они выражались? Неужели они одолели тебя?