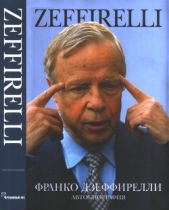Стихотворения и поэмы. Рассказы. Борислав смеется

Стихотворения и поэмы. Рассказы. Борислав смеется читать книгу онлайн
В книгу классика украинской литературы Ивана Франко (1856–1916) вошли наиболее известные стихотворения, поэмы («Смерть Каина», «Иван Вишневский», «На Святоюрской горе», «Моисей») и рассказы (из книги «В поте лица», из Борисовского цикла), отличающиеся богатством тем и разнообразием жанров, а также повесть «Борислав смеется».
Вступительная статья С. Крыжановского и Б. Турганова.
Комментарии Б. Турганова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И вдруг сломилось, развеялось все мое упрямство, мое ожесточение, мое самолюбие. Я отчетливо почувствовал, что я сейчас совершил нечто бессмысленное, отвратительное, что я пошел на бессердечное убийство, взвалил на себя проступок, которого не искуплю и не замолю никогда. Ведь я совершенно бесцельно загубил такое красивое, невинное, живое существо!
Вот здесь, на вольном свете, перед лицом этого ясного, теплого, весеннего солнца я вынес и привел в исполнение жестокий, ничем не оправданный смертельный приговор. Теперь я совершенно ясно и отчетливо почувствовал, что убийство было совсем бесцельно. Ведь этот бедный трупик я не смогу ни ощипать, ни съесть. Нет, я не в силах был даже еще раз взглянуть на него. Выронив мертвую птичку из рук, пристыженный, взволнованный, угнетенный и смущенный, я побежал прочь, прочь от нее, чтобы не видеть ее, чтобы стереть в душе даже память о ней. Мне очень хотелось плакать, но я не мог; что-то словно клещами сжимало мне сердце, и оно не могло излить свою боль в слезах. Маленькая красивая птичка лежала у меня на душе, я унес ее с собой, и мне все казалось, что она глядит на меня своими невыразимо грустными глазками, глядит с тихой покорностью, кивает головкой и шепчет тихонько:
— Ах, я ведь знала, что прошла моя весна, что неволя будет для меня и смертью!
В мягком, впечатлительном детском сердце недолго жили эти тревоги. Через два-три дня я уже забыл о птичке и о ее несчастной судьбе. Забыл, казалось, навсегда. Воспоминание о моем преступлении залегло в каком-то темном уголке моей души, и постепенно его заслонили, прикрыли и погребли под собой другие впечатления, другие воспоминания.
А между тем оно не умерло. Прошло целых двадцать лет, и когда на меня обрушился первый тяжелый удар несчастной судьбы, когда я, юный, с сердцем, полным страсти, жажды жизни и любви, среди чудесного лета чахнул и увядал в тюрьме и должен был видеть, как разбиваются все мои надежды, как без милосердия топчут, давят, без цели и без смысла коверкают и разрушают все то, что я считал драгоценнейшим сокровищем моей души, — тогда тревожной, бессонной ночью явилась мне та маленькая, красивая птичка, кольнули меня в самое сердце ее грустные, полные тихой покорности глазки, ее медленные движения воскресили передо мной те невыразимо страшные слова:
— Ах, моя весна прошла! Я в помоле! Знаю, знаю, чем все это кончится!
И с тех пор я не могу избавиться от этого воспоминания. Оно отравляет мне каждую минуту счастья, лишает меня силы и мужества в несчастье. Оно мучает меня угрызениями совести, и мне кажется, что все глупое, бесцельное, жестокое и злое, что я когда-либо совершил в своей жизни, воплотилось в реальном образе этой маленьком, невинно замученной птички, чтобы тем упорнее терзать меня. В ночной тиши я слышу, как эта птичка тихонько постукивает клювиком о стекло, и я просыпаюсь. А в минуты тревоги и отчаянья, когда жестокая боль запускает когти в мое сердце и грозит вот-вот сломить силу моей воли, мне кажется, что сам я — та маленькая, слабенькая, голодная птичка, Я чувствую, как какая-то упрямая, жестокая и бессмысленная сила держит меня в руке, дразнит меня видениями недоступной свободы и счастья и, может быть, в следующее мгновение без причины и без цели свернет мне голову.
‹1898›
ПЕРЕД ОТХОДОМ ПОЕЗДА
— Черепаха идет!
Локомотив «Черепаха» еще спал. Покоясь на трех парах массивных стальных колес, он гордо возвышался в ряду других машин; вся нижняя половина его тела тонула в густом сумраке, заполнявшем обширный зал депо. Только вверху, под потолком, понемногу светлело. Сквозь крышу из толстого, граненого, зеленоватого стекла в депо просачивались первые всплески летней зари, эти слабенькие, синевато-розовые, полусонные еще улыбки природы. В депо они попадали, десятикратно ослабев, чуть приметно, серовато-зелеными проблесками. В этих проблесках лоснящаяся толстая труба машины и ее мощный круглый хребет возникали из мрака в каких-то фантастических очертаниях.
— Черепаха идет! — крикнул громко старший кондуктор, проходя мимо депо, но так, чтобы его услыхали рабочие, ночевавшие здесь же, рядом… И они услышали его. В каморке, служившей им спальней, поднялась возня, послышались сонные голоса, шаги, протяжные зевки, плеск воды — работники обмывали заспанные лица, — и немного погодя двое людей в рабочих блузах отперли широкие двери депо и вошли внутрь.
— Что, старуха, спишь? — проговорил один, постукивая «Черепаху» по железному брюху. — А ну-ка, покажись, как ты выглядишь!
Сквозь распахнутые двери хлынула в депо широкая волна света — не резкого, солнечного, потому что солнце еще не взошло, а ласкового, предрассветного, который лился прямо из бездонной синевы неба, с розовеющим румянцем и золотыми вспышками зари, от бледного лунного серпа, который, застряв посреди неба, казалось, не знал, как ему поступить — спрятаться, светить или погаснуть. При этом свете в депо было достаточно хорошо видно, и рабочие принялись за «Черепаху». Они чистили ее, подмазывали колеса, выгребали пепел из топки, наполняли водою котел. Одновременно два кочегара с грохотом забрасывали в тендер каменный уголь, переговариваясь, пожалуй, не слишком дружелюбно. Вот подошел машинист и тоже стал возиться у машины, тут смазывая маслом, там постукивая маленьким молотком, то открывая, то закрывая какой-то клапан.
Ho «Черепаха» стояла холодная, бесчувственная, как заколдованная царевна я стеклянном гробу. Сквозь стеклянную крышу ее гроба заглядывал все с большим любопытством молодой день; его зеленоватые, стеклянные глаза начали постепенно наливаться сперва серебристым, потом золотисто-розовым блеском. Кроме шороха щеток, которыми чистили машину, лязганья железных лопат и грохота угля в тендере — ничего не было слышно. Рабочие делали свое дело молча; один из кочегаров перестал работать и пошел домой позавтракать: ему предстояло нынче отправляться с «Черепахой» в дорогу. Машинист зевал. Был пятый час утра; он не спал pi четырех часов, а впереди у него еще этот пятичасовым перегон, прежде чем он вернется домой и сможет отдыхать целых двенадцать часов.
Машина еще спала.
— Ну, что, готова «Черепаха»? — крикнул старшим кондуктор, возвращаясь из своего обхода и остановись в дверях… Его плотная высокая фигура отчетливо вырисовывалась на фоне рассветного неба, которое уже все было охвачено багряным пламенем с золотой, теперь уже добела раскаленной каймой внизу. В этом свете круглое, полное лицо старшего кондуктора точно налилось огнем, а его черная густая борода была, казалось, прошита пурпурными нитками.
Рабочие ничего не ответили. Вычистив и приготовив машину, они помогали забрасывать уголь в тендер. Только машинист буркнул небрежно:
— Сейчас, будет готова.
— Прикажите разжигать топку. Через четверть часа выезжайте! — сказал старший и пошел дальше.
Кочегар «Черепахи», согнув спину, как вол, когда его впрягают в ярмо, полез на свое место по ступенькам между машиной и тендером и, выпрямившись на миг, сразу исчез. Нагнувшись, он потонул в темном зеве топки и начал раскладывать огонь. Сначала он положил и поджег несколько мелких сосновых поленец, а затем, когда то загорелись, начал обкладывать этот костерчик с боков и сверху углем. Едкий дым синими клубками висел над костром, кидался в багровые, налившиеся кровью глава кочегара, но тот не отворачивался, делал свое, привычное дело. Вскоре в топке гудел и трепетал уже сильный огонь; груда угля, насыпанная кочегаром, развалилась, треща и рдея. Ее придавливали всё новые и новые глыбы. Звенела железная лопата, подбрасывая уголь в огонь, но в котле было еще тихо.
Машина еще спала.
Но вот в котле послышалось легкое бульканье, как бы несмелый ропот какой-то новой, еще слабой и бессознательной жизни. Вот легкою струйкою понеслись из трубы первые клубки белого пара, понеслись и тут же замерли, остановленные умелою рукою машиниста. Стоп, детки! Не туда вам дорога! Пожалуйте; вон туда, в тот поршень, в тот пустой цилиндр! Смелей! Смелей! Сами себе отворяйте дверцы! Не ждите, детки, пока вам кто-нибудь отворит. И не бойтесь, что там немножко тесно. Только смелее! Дальше! Потеснитесь малость, ведь в этой тесноте — ваша сила. Только там вы узнаете, кто вы и на что способны!