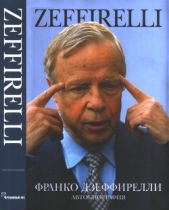Стихотворения и поэмы. Рассказы. Борислав смеется

Стихотворения и поэмы. Рассказы. Борислав смеется читать книгу онлайн
В книгу классика украинской литературы Ивана Франко (1856–1916) вошли наиболее известные стихотворения, поэмы («Смерть Каина», «Иван Вишневский», «На Святоюрской горе», «Моисей») и рассказы (из книги «В поте лица», из Борисовского цикла), отличающиеся богатством тем и разнообразием жанров, а также повесть «Борислав смеется».
Вступительная статья С. Крыжановского и Б. Турганова.
Комментарии Б. Турганова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Куда едете, старик? — спросил пан 3. по-немецки.
— В Киш-Сольви, господин граф, в Киш-Сольви! — жалобно заговорил еврей. — Я должен сегодня там быть, мой сын заболел, пишет, чтобы я обязательно приехал.
— Должны быть, а не имеете денег на дорогу? — спрашивал пан 3.
— Как не имею? — воскликнул еврей. — Имею на пол билета третьего класса.
— Этого мало.
— Как это мало? Я бедный человек, откуда я могу платить больше? Посмотрите, господин граф, вот у меня свидетельство о бедности, здесь, в Мишкольце, выданное еврейской общиной. Мне говорили, что с таким свидетельством с меня возьмут половину цены за билет.
— Когда-то брали, а теперь нет, — произнес паи 3.
Как это-нет? (Gott gerechter! [82] Почему нет? Ведь теперь я еще беднее, чем раньше был. А в Киш-Сольви я непременно должен быть! Ай-вай, ай-вай!
— Господа, соберем для этого бедного человека! — воскликнул пан 3. и протянул шляпу. Времени было мало, пора было идти по вагонам. Несколько пассажиров второго класса бросили по десять, по двадцать центов, пан 3. прибавил еще от себя и высыпал деньги в пригоршню швейцару, приказав ему что-то по-венгерски. А сам взял еврея за руку и повел его с собой в вагон.
— Ну, и что со мной будет? — спрашивал старик, упираясь, словно не верил тому, что произошло на его глазам.
— Иди, иди со мной! — говорил пан 3., таща его за собой.
— Но у меня нет билета! — спорил старик.
— Сейчас будет билет! Иди, не бойся!
— Но это же втором классе! — кричал испуганно еврей. — Зачем мне идти по второй класс?
— Иди со мной, иди! — добродушно подталкивал его пан 3. н силком втянул его за собой в наш вагон и в то купе, где мы сидели. Старик вошел немного встревоженный, держа под мышкой какой-то грязный и не очень приятно пахнувший мешок, который он собрался было положить под диван, но, убедившись, что этого нельзя, засунул в уголок дивана, а затем, сообразив, что и это неудобно, с трудом, при помощи молодого 3., пристроил на полочке над своей головой. Не знаю, от него, ли самого или от мешка, но купе сразу наполнилось тем особенным, специфическим запахом, который так хорошо знаком каждому, кто хоть раз в жизни ездил в третьем классе галицкой железной дороги не в субботний день.
Пап 3., казалось, не замечал всего этого. Он был очень доволен и, словно старик еврей был его личным гостем, суетился около него, старался усадить поудобнее, а затем сел сам рядом, но так, чтобы не касаться засаленного лапсердака, и примялся расспрашивать его о сыне, о жене, о других детях, о его ремесле, о заработках и все это с таким интересом, словно собирался получить от старика бог знает какие важные сведения. А из ответов старика оказалось, что был он самый обыкновенным евреем, держал корчму у Верецких, нажил там целую кучу детей и, женив самого младшего сына на девушке из села Скотарского, бросил корчму и вместе со своим последним сватом принялся торговать льном, пенькой и крестьянским полотном. Эта торговля занесла его почему-то в Мишкольц, где он пробыл несколько недель, и теперь он возвращается домой, потому что, говорят, его сын заболел. Пан 3. очень подробно расспросил и об этом сыне, просил описать его внешность, чтобы сравнить с собственным сыном, которого он и представил старику по всей форме. А когда на этом запас тем для разговора был исчерпан, тем более что старый еврей, не привычный к тому, чтобы господа так с ним разговаривали, отвечал как-то неохотно, путался и запинался и поглядывал на пана 3. исподлобья, как бы сомневаясь — действительно ли он такой добрый или только издевается над ним, — пан 3., оборотясь к нам, сказал:
— Люблю, ужасно люблю таких людей!
— Что же в них так вам любо? — спросил я.
— Их расовость. Посмотрите на этого старика! Ведь это же, так сказать, экземпляр! Скажите, не так ли должны были выглядеть те евреи, которые две тысячи лет назад молилось в храме Соломона?
— Наверно, не так. Я бы сказал: так, пожалуй, должны были выглядеть евреи в средневековом гетто.
— А хотя бы! А хотя бы! Разве и это также не частица истории?
— Возможно. Но этот экземпляр, как вы говорите, ведь это не музейный экземпляр? Это, наверно, также венгерский гражданин!
— Понимаю, понимаю нашу мысль! — живо подхватил пан 3. — Вы правы, есть доля нашей вины в том, что при огромном прогрессе Венгрии во всех областях жизни у нас не перевелись еще и такие граждане, как вот этот, и такие, как вон те! — П он указал рукой на новую кучку русинов, медленно, усталыми шагами тянувшуюся по тропинке вдоль железной дороги на юг…
— Особенно в отношении этих, — он указал на еврея, — мы часто бывали несправедливы, но теперь пора перестать. Теперь мы их признали нашими братьями, равными себе, и увидите, что мы очень скоро получим из них… А!
Невольное восклицание вырвалось из его груди и прервало его пророческую речь. Он обернулся к старику. Последний, видя, что пан перестал обращать на него внимание, почувствовал себя несколько свободнее и счел за лучший выход при данной ситуации закурить трубку. Он достал из своего мешка длинную деревянную трубку, оправленную желтой медью, вынул большой, видавший виды кисет и, набив трубку каким-то черным табаком, закурил. Именно запах этого табака, которого нам 3. совершенно но переносил, и вызвал, у него восклицание, оборвавшее сразу его речь.
— Ах, вы курите? — с подчеркнутой любезностью, улыбаясь, обернулся он к старику, — Прошу закурить вот эту!
И он вынул из бокового кармана серебряный портсигар и предложил еврею сигару.
— A fejner Cuba! [83] — похвалил старик, посмотрев на сигару глазом знатока, и, преспокойно спрятав сигару в карман, сказал: — Привезу моему сыну.
— Но закурите и вы! — уговаривал пан 3,- Вот вам еще одна, и очень хочу, чтобы вы выкурили мою сигару.
— Danke, Herr Graf! [84] — повторил старик, пряча в карман и вторую сигару. — Куда уж мне, старику! Я уж как-нибудь спою трубочку…
И он самым спокойным образом начал попыхивать трубкой, пуская из нее клубы, сизого, едкого дыма прямо и лицо пана 3. Некоторое время пан 3. стоял растерянно, задыхаясь от дыма и покусывая кончик уса, а затем так же спокойно вырвал у старика из зубов трубку и швырнул ее — в окно вагона. Еврей даже вскрикнул от страха: его стереотипное «ай-вай» невольно вырвалось из глотки. Но, видя, что это его благодетель позволил себе так пошутить с ним, он засмеялся как-то сквозь слезы и пролепетал, очевидно не совсем понимая, что произошло:
— Herr Graf! Я старый человек… Бедный человек… Я с господином графом не могу спорить… Трубка стоила мне два гульдена… три гульдена, клянусь душой, три гульдена!
Пан 3., улыбаясь, вынул три гульдена и вручил их старику, который, обрадованный таким неожиданным счастьем, обязательно хотел поцеловать ему руку, а когда пан 3. не позволил, неожиданно схватил руку паника и приложился к ней.
— Herr Graf! Позвольте! — повторял on. Sic sind ä feiner Mann, ä edler Mann! [85] Вы не хотите обидеть старого еврея.
— А в другой раз, когда тебе дают сигару и приказывают курить, так кури, — не то добродушно, не то сердито произнес пан 3. Собственно, тебя самого надо было так вышвырнуть, как твою трубку, понимаешь?
Старый еврей только теперь понял, что поступок господина графа не был наивной детской шуткой, что господин рассердился и только сдерживает себя при посторонних. Поняв это, старик даже затрясся, побледнел как полотно, хотел, видно, еще что-то сказать, но у него перехватило горло, только посиневшие губы двигались и слегка вздрагивала седая, пожелтевшая от табачного дыма борода. Он сел в уголок купе, как-то сжался и совсем замолк. Некоторое время еще он обводил испуганными глазами купе, но вынужденное спокойствие, жара и спертый воздух, мерное покачивание вагона и перестук колес быстро укачали его. Он несколько раз клюнул носом и заснул, запрокинув голову на боковую подушку дивана. Пап 3. по обращал уже на него никакого внимания, только юноша, увидя старика в такой необычной позе, быстро вынул карандаш и маленький альбомчик для рисования и принялся зарисовывать голову старика с торчащей вверх бородой и вытянутой, словно подставленной под нож, шеей. Пан 3. между тем продолжал разговор.