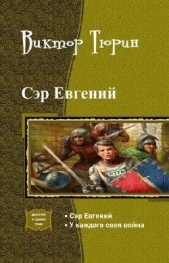Распутин
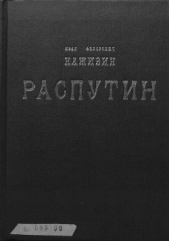
Распутин читать книгу онлайн
Впервые в России печатается роман русского писателя-эмигранта Ивана Федоровича Наживина (1874–1940), который после публикации в Берлине в 1923 году и перевода на английский, немецкий и чешский языки был необычайно популярен в Европе и Америке и заслужил высокую оценку таких известных писателей, как Томас Манн и Сельма Лагерлеф.
Роман об одной из самых загадочных личностей начала XX в. — Григории Распутине.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Бедный старый Гутенберг! Думал ли он когда-нибудь, что его изобретением завладеют дьяволы и обрушат на род человеческий столько ужасающих бедствий?! Вот еще яркий пример того, о чем я не раз уже писал на этих страницах: мы не можем предвидеть последствий наших поступков, и действия наши всегда дают результаты совсем не те, которых мы от них ожидаем. Если бы Гутенбергу приснился во сне наш современный газетный лист, то, конечно, добрый немец в ужасе сам разбил бы свой ужасный станок. Воевали и пакостили люди, конечно, и до Гутенберга, но все же невежество, лживость, подлость и кровопролития рода человеческого на ротационках увеличились в миллионы раз…
Нет, над толстовской шуткой умным людям подумать попристальнее не мешает…»
На третий день после отправки письма Андрею Ивановичу Сомову от него пришла телеграмма: «Согласен». И Евгений Иванович, тяжело мучаясь, написал обстоятельное письмо Петру Николаевичу, в котором мягко повторял ему все то, о чем они не раз с ним спорили, и заявлял о полной невозможности дальнейшей совместной работы. Он приглашал Петра Николаевича к себе на следующее утро для ликвидации дела. Василий, дворник, отнес письмо в редакцию и принес ответ:
— Петр Николаевич сказали, что завтра утром будут…
— Ну, спасибо… — облегченно вздохнув, отвечал хозяин.
— А на улицах опять гумаги расклеивают… — сказал Василий.
— Какие бумаги?
— Насчет небилизации… Говорят, восемь годов опять берут… А у вас в газете писали: чрез три месяца все кончится… — с легким упреком сказал он. — Нет, знать, немец-то, он зубастый, с им, пожалуй, и в три года не управишься… Эдак, пожалуй, и до вас скоро очередь дойдет…
Что-то тяжелое подкатило к сердцу. Не раз и не два думал он об этом бессонными ночами. Он не разбирался, не примешивается ли тут и трусость, он знал несомненно и твердо одно: принять этого он не может никак, ни за что!
— Только все говорят, что вас не тронут… — продолжал Василий добродушно и медлительно. — Потому у вас газета, а им это тоже во как требуется, чтобы народ поддерживать. Большие разговоры в народе про недостачи наши идут, а вы обскажете в газетине как покруглее, ан, глядишь, и то же выходит, да не то! С нашим народом чтобы напрямки никак нельзя, потому наш народ неверный. Положили, скажем, милиен людей — напиши милиен, а он будет думать десять милиенов, а напишете вы десять, к примеру, тысяч, он будет думать, что милиен, так дело-то точка в точку и выйдет… — сказал он и, вдруг вздохнув, неожиданно заключил: — За грехи, за грехи, знать, Господь нас карает…
VIII
ОСКАЛ ЗВЕРЯ
Бедному Коле улыбнулось счастье: внезапно по неизвестной причине у него произошло кровоизлияние в мозг, и он умер. И хоронили его ярким вешним утром в Княжом монастыре, где была у них родовая могила, и грустные погребальные напевы смешивались с щебетанием птиц в сводах высоких деревьев, и то дым кадильный покрывал своим тяжелым ароматом нежное благоухание цветов, то запах цветов побеждал этот торжественный запах смерти. Князь Алексей Сергеевич, понурившись, стоял над раскрытой могилой погибшего сына, и в душу его все сильнее и сильнее вкрадывалось сомнение: не за призрак ли погиб его милый святой мальчик? Не он ли виновен прежде всего в этой смерти? Но думать это было невозможно, физически невозможно, ибо это значило бы поставить крест на себе и даже истребить себя. И князь начинал с усилием думать, что нет, эти думы просто плод минутного малодушия, что жертва его сына — прекрасная жертва, что он умер за светлое будущее своей родины, за торжество цивилизации, за свободу. Княжна Саша, которая очень любила брата, горько плакала и находила какую-то странную отраду в том, что вот он умер и похоронен все же среди своих, что они будут носить ему сюда всегда свежие цветы, навещать его, в то время как другие несчастные брошены где-то там в чужой земле, и никто из их близких никогда, может быть, и не узнает, где их могила. Но слово несчастные, которое нечаянно вырвалось у нее, возмутило весь строй ее души, ее дум, нарушило на мгновение ее уверенность в том, что они с папой, приняв войну, поступили вполне правильно, и моментально закрылись у нее ее внутренние клапанчики, предохранители от неприятностей, и она, несмотря на всю искренность и глубину своего горя, осталась твердо на прежних позициях, что было хорошо и тем, что поддерживало отца. Княжна же Маша, более молодая и более мягкая, просто плакала надрывно, тяжело, больно, и интересы цивилизации и свободы в эти торжественные и жуткие минуты над открытой могилой милого брата нисколько не интересовали ее…
Ваня Гвоздев, уже студент, во время похорон Коли решил, наконец, идти на фронт: во-первых и прежде всего, надоело колебаться — идти или не идти, — во-вторых, Ваню все более и более прельщала мысль опрокинуть сперва Вильгельма II, а потом и Николая II, которые, по его мнению, были виноваты уже тем одним, что обрушили на человечество эти ужасы войны, а кроме того, ему хотелось доказать этим решением Фене, что она… ну, вообще доказать что-то такое смутное, но значительное. И он решил идти вольноопределяющимся, не офицером, как Володя, и не солдатом, как несчастный Коля. Этим он показывал, во-первых, полную самостоятельность в решении, а во-вторых, этим он немножко отгораживался все же от солдатчины, которая, несмотря на его твердые демократические убеждения, внушала ему страх своей несознательностью, а еще более матерщиной, которой он решительно не выносил…
Когда бедная Марья Ивановна узнала о решении своего сына, она, давно уже втайне готовившаяся к этому удару, все же немало плакала и все только покорно повторяла:
— Ну что же, у других поотнимали детей — пусть отнимают и у меня… Пусть… Бог не простит им эти материнские слезы, нет, не простит…
Кто были эти они, Марья Ивановна никогда не определяла точно, но пророчество свое, плача, повторяла много раз. Рассудительная Глаша, с необычайным азартом следившая за войной, очень жалела свою барыню и все настаивала, чтобы она велела Ване идти в антелерию, где, по ее справкам, было много безопаснее. И потому Ваня пошел в пехоту.
Ликвидируя свои дела с университетом, Ваня был еще в Москве, когда война неожиданно показала ему свой страшный оскал среди далекого от фронта богатого города: нежданно-негаданно в Москве разразился страшный немецкий погром. Как только смутные слухи о том, что на Кузнецком громят, долетели до ушей Вани, он бросил все и помчался, нахмурив брови, возмущенный до глубины души такой некультурностью москвичей, в центр. На Моховой, в Охотном, на красивой Театральной площади, всюду и везде была заметна тревожная суета развороченного муравейника. Народ торопливо тянулся, тревожно, оживленно переговариваясь, в сторону Кузнецкого — точно какой-то огромный магнит стягивал туда людские опилки со всего города. И как только, пройдя Мерилиза и обогнув ювелирный магазин Хлебникова, Ваня вышел на Кузнецкий, так весь он прямо затрясся от глубокого волнения, в котором отвращение, негодование и какой-то темный страх смешивались в одно.
На всем протяжении широкого Кузнецкого, и по Петровке, и по Лубянке, и по Неглинному стоял смутный и злой галдеж, бегали, махая руками, люди, звенели разбиваемые огромные зеркальные стекла, слышался грохот и треск ломаемой мебели и дверей, и ругань, и смех, и крики. Вдоль тротуаров уже протянулись баррикады, в которых в отвратительной мешанине виднелись и рваные ноты, и разбитые зеркала, и дорогие ткани, и великолепные книги, и в мелкие щепки разнесенные дорогие рояли, и оконные стекла, и бронза, и статуи, и хрусталь, и все, что угодно, все, чем торговал богатый Кузнецкий в дни мира и труда. А из окон, из всех этажей вместе с звенящими стеклами летели вниз комоды, книги, стулья, велосипеды, граммофоны, часы, огромные рояли, белыми мотыльками порхали изорванные в клочки бумаги. И магазины других иностранцев толпой обходились — разносили только фирмы немецкие…


![Сэр Евгений [СИ]](/uploads/posts/books/35451/35451.jpg)