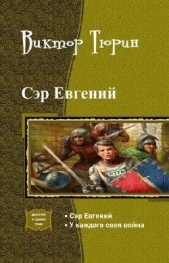Распутин
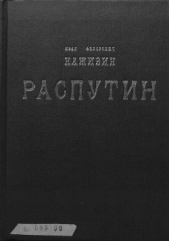
Распутин читать книгу онлайн
Впервые в России печатается роман русского писателя-эмигранта Ивана Федоровича Наживина (1874–1940), который после публикации в Берлине в 1923 году и перевода на английский, немецкий и чешский языки был необычайно популярен в Европе и Америке и заслужил высокую оценку таких известных писателей, как Томас Манн и Сельма Лагерлеф.
Роман об одной из самых загадочных личностей начала XX в. — Григории Распутине.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В дверь осторожно постучали. Спавший Мурат поднял свою красивую голову и с достоинством заворчал.
— Войдите, войдите…
В комнату вошла Федосья Ивановна.
— Я сичас в городе была, Евгений Иванович… — сказала она взволнованно. — И на Дворянской встретилась я с молодой княжной… с Сашенькой… Бегут, никого словно не видя, алицо все от слез даже опухло… Поздоровалась я с ними: что это с вами, говорю, барышня, милая? На вас и лица нету… Оказалось, Николенька, молодой князь, прибыл — ранненого привезли… Рана-то будто заживает уж, ну только сам он не в себе…
— Как — не в себе? — нахмурился, побледнев, Евгений Иванович.
— Они говорят осторожно, ну а я так поняла, что… не в своем разуме.
— С ума сошел?!
— Да. Будто бы от раны. Они в голову ранены…
— Где же он?
— Пока в лазарете на Дворянской… — сказала Федосья Ивановна. — А как с ними поступят дальше, еще неизвестно. Очень убиваются Сашенька-то… Конечно, единственный брат ведь… Велели вам передать…
Евгений Иванович тотчас же оделся и, взволнованный, вышел. Было начало весны. Бурое месиво разболтанного талого снега покрывало всю землю. Низко и печально было серое небо. По улицам, унылым и грязным, всюду и везде маршировали по всем направлениям, обучаясь, запасные бородатые мужики и совсем зеленые юнцы последнего призыва. Они нескладно, тяжело старались попадать в ногу, напряженно размахивали руками и с лицами, на которых была написана бесконечная скука и уныние, тянули:
И были все они без ружей, и на ушко шептали уже опасливо люди, что оружия у русских армий нет, но никто этому не хотел верить, и потому все повторяли, что такие слухи распространяются только германскими агентами. Но лавки бойко торговали, горожане шли туда и сюда, гимназисты, весело смеясь, возвращались по домам, перелетывали и ворковали по рядам сытые голуби, и купцы в лисьих и енотовых тулупах, сбившись кучками, обсуждали последние военные новости. Две собаки, сцепившись задами, стояли посреди улицы, и толпа детей со смехом кидала в них грязным снегом и палками, а взрослые смеялись и делали поганые замечания.
Поднявшись по сильно затоптанной, пахнущей лазаретом широкой каменной лестнице во второй этаж — здесь раньше помещался ресторан «Лондон», теперь, по случаю трезвости, закрытый, — у самой двери лазарета Евгений Иванович столкнулся с главным врачом его Эдуардом Эдуардовичем. Как немца его сперва решили было сослать куда-нибудь к Уралу, но так как губернатор к нему благоволил, то его как исключение оставили в городе, где он исстари славился как своим знанием, так и добродушием удивительным и прекрасной игрой на виолончели.
— У вас молодой князь Муромский? — поздоровавшись, спросил Евгений Иванович. — Как он?
Врач замялся.
— Тяжелая рана в голову… Его германцы, говорят, бросили, считая мертвым, — сказал он тихо. — Жить может, но…
— Душевное расстройство?..
— Да… — кивнул тот головой. — Только не говорите родственникам. Я их немножко обнадеживаю… Хотите повидать князя? Мы ему дали отдельную комнату. А старый князь в Москву поехал хлопотать, чтобы его приняли в клинику Кожевникова…
— Да зачем же вообще привезли его сюда? — идя длинным пахучим коридором за грузным белым доктором, спросил Евгений Иванович. — Ведь мимо Москвы провезли…
— Зачем, зачем… — вздохнув, повторил врач. — Многое делается низачем… Конечно, надо было не мучить, а сразу в Москве оставить. Много, много беспорядка в деле! Это хорошего ничего не обещает…
Он осторожно постучал в застекленную матовым стеклом дверь — тут раньше помещались отдельные кабинеты ресторана — и, не дожидаясь ответа, вошел. Евгений Иванович невольно остановился на пороге: на белой койке, сам весь в белом, с плотно забинтованной головой сидел Коля, исхудалый, прозрачный и — новый. Он остановил на враче и госте свои прекрасные чистые серые глаза, но в них не отразилось ничего: было совершенно ясно, что он не узнал ни того, ни другого.
— Зачем вы пришли? — с укором, тяжело спотыкаясь языком, сказал он и, не дожидаясь ответа, все так же тяжело заикаясь, с большим усилием продолжал: — Я же просил никого ко мне не приходить… Разве это так трудно… не приходить? Я не хочу видеть лжецов. Эти сухие цветочки у ног Мадонны были так… трогательны… А рядом — кишки изо рта лезут у раздавленных артиллерией… И бьются совсем уж ни в чем не повинные лошади… Тут великая ложь. Или цветочки, или это… А так, вместе непонятно… невозможно… — растерянно бормотал он с великим напряжением, от которого слушающим было мучительно, и вдруг на больших страдальческих глазах его налились крупные слезы, и он с мольбой, спотыкаясь языком, проговорил: — Уйдите… уйдите все! Я не могу видеть вас… Уйдите…
И он горько заплакал.
Евгений Иванович нахмурился. Душа его мучительно болела. Молчал — он знал, что разговор, слова тут бесполезны, — и грузный, добрейший Эдуард Эдуардович и тяжело сопел носом.
— Пойдемте… — тихо сказал он. — И так вот дни и ночи… Мадонна какая-то в цветах… И куда-то она исчезла… Ничего понять нельзя. Пойдемте…
Евгений Иванович, сгорбившись, с мученическим выражением в глазах вышел из госпиталя и, не подымая глаз, пошел домой. Дома он тотчас же сел за письмо к незнакомому ему писателю-народнику Андрею Ивановичу Сомову, в последних статьях и рассказах которого звучал протест — насколько только это было возможно в обстоятельствах военного времени — против войны и все растущего озверения и развращения масс. Евгений Иванович запрашивал старого писателя, не возьмет ли он на себя редактирования «Окшинского голоса» — просто закрыть газету теперь было нельзя, во-первых, потому, что это сочли бы за демонстрацию, а во-вторых, около нее кормилось несколько семей. И он подробно изложил свои взгляды на дело: как же не защищаться, если нападают, — писал он с мученическим выражением в глазах, точно не веря в то, что он пишет, точно подчиняясь какой-то посторонней воле, — но и защищаясь, все же надо помнить, что мы все же не орангутанги, а люди, и всем для войны пожертвовать мы не только не можем, но и не должны…
И, взяв свою секретную тетрадь, Евгений Иванович наскоро записал:
«Толстой как-то заметил, что изобретение книгопечатания имело своим прямым следствием распространение невежества, его усиление. Люди прессы со смехом не раз повторяли эту, как они думали, шутку старика. Но это не было с его стороны шуткой, но наоборот, это были слова, серьезнее и тяжелее которых для нас трудно себе и представить, и нужно всю смешную самовлюбленность людей прессы, чтобы не понять тяжести и ужаса этих слов.
Да, если мы повнимательнее всмотримся в нашу литературу, в наши учебники для школ, а в особенности в наши газеты, затопляющие ежедневно наши города своим грязным, трухлявым потопом в ранние часы, когда вся земля должна бы молиться, то человек разумный и не совсем лишенный нравственного чутья не может не признать, что девяносто девять процентов всей этой запакощенной бумаги — пустая, жалкая, страшно вредная отрава… Достаточно посмотреть, как ведут себя эти светочи цивилизации в наше страшное время, чтобы понять весь ужас Гутенбергова изобретения. А борьба за власть, вся построенная на заведомой лжи, подлогах, клевете? А порнография? А популярные брошюрки, в миллионах экземпляров засоряющие собою нашу жизнь и внушающие своим читателям, что Бога нет и все очень просто произошло от обезьяны, а обезьяна от атома или электрона? Но главное, главное — газеты!..
Нет, нет, не просвещению, но невежеству главным образом служат эти многомиллионные рати свинцовых букв!
Война, в которой погибают теперь европейские народы, ужасна, но будущая война будет еще ужаснее. Недавно я читал у одного англичанина описание этой нашей будущей войны. Поведут ее главным образом, конечно, воздушные флоты, снабженные бомбами страшной силы. Собственно фронтов не будет — флоты эти понесут со скоростью двухсот верст в час смерть и разрушение сразу в тылы, в столицы врага, в его самые крупные и важные центры. Их величества, народные представители и газеты, начинающие и вдохновляющие теперь все войны, будут таким образом в будущем находиться под ударами войны наравне с простыми смертными, а не прятаться от ими же созданного и ими вызванного ужаса в прекрасном отдалении от него. Но, не дожидаясь неприятельских летчиков, все люди сердца, все люди разума, все, для кого человечность не пустой звук, должны принять самые решительные меры. Как только вспыхнет война, они должны не манифестировать, не исходить в бесплодных речах, а тотчас же организовать особые ударные отряды и динамитом смести с лица земли типографии газет, которые гонят своими статьями несчастные народы на взаимоистребление, сами оставаясь в глубоком тылу…


![Сэр Евгений [СИ]](/uploads/posts/books/35451/35451.jpg)