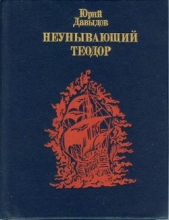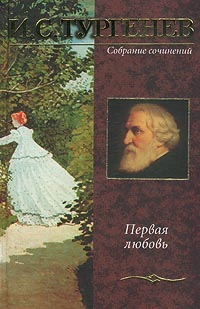Соломенная Сторожка (Две связки писем)

Соломенная Сторожка (Две связки писем) читать книгу онлайн
Юрий Давыдов известен художественными исследованиями драматических страниц истории борьбы с самодержавием и, в особенности, тех ситуаций, где остро встают вопросы нравственные, этические. Его произведения основаны на документальных материалах, в значительной степени почерпнутых из отечественных архивов.
В настоящем издании представлен полный текст романа, посвященного в основном выдающемуся русскому революционеру Герману Лопатину.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Горский выкричал то, о чем думал все чаще и пристальнее. Нет, не про «кошелек» и «распивочно и на вынос» – не об этом, нет, а искренне думал о своей неталантливости, недостаче животворящей мощи, нехватке дерзости, почина, несомненных признаках третьестепенности. Правда, иногда случалось, что этот гложущий пессимизм он все же приписывал своей талантливости, ибо таланту свойственно недовольство собою, не тотчас же думал, что такой же пессимизм и такое же недовольство свойственны и человеку просто добросовестному, просто усердному. Но сейчас в духоте мягкой портьеры его мучило другое: давешний крик, давешние судороги как бы призывали Зину утешать его, вселять уверенность, поддерживать, а он не мог решить, вправду или не вправду ему это нужно, вправду или не вправду он ждет ее утешений, и это-то и было сейчас горше всего. И еще мучило то, что даже ей, Зине, дороже и ближе которой не было на свете, даже ей бессилен он объяснить такую простую, в сущности, вещь, как жажду творить при ясном и полном сознании невозможности совершить и достичь.
Больше он уж никогда не кричал. Работал усердно, кропотливо, тщательно, обретая в самой этой кропотливости и тщательности грустное и надежное спокойствие. Жизнь коротка, а искусство вечно – этого ему было достаточно. Смирение не было паче гордости – он признавал свою бескрылость, свою посредственность, свою третьестепенность. Каждому – свое. Он перечитал пропасть исторических сочинений, непраздно бывал в музеях, искал костюмы, гравюры, эстампы, ездил в Сен-Сир, где некогда морганатическая супруга короля Солнца учредила знаменитый «институт дам святого Людовика», не хотел ошибиться ни на йоту, понимая, что высшая правда не в правдоподобии, не в камзолах и пряжках, но в самой безошибочности и в самом правдоподобии находил отраду и смысл. Эскизы Горского утвердил президент. Константин Николаевич запросил три тысячи. Великий князь, поморщившись, велел отпустить. Быть может, потому, что «Кузница», купленная у Горского, пришлась по вкусу императору и украшала его гатчинский кабинет. И Горский приступил к исполнению заказа: две картины маслом – Петр Великий у Тюльерийского дворца рядом с Людовиком Четырнадцатым и Петр Великий во дворце маркизы Ментенон, пережившей своего морганатического мужа, короля Солнца, той самой маркизы, что руководила сен-сирским институтом.
Все это не очень-то нравилось Зинаиде Степановне. Вернее, совсем не нравилось. Она хранила верность заветам минувших десятилетий, признавая живопись обличительную, исполненную гражданской скорби. У нее был свой круг давних друзей, и в этом своем кругу она, кажется, избегала говорить о том, что пишет ее нынешний муж, а к своему старому другу, любившему ее отцовской любовью, к Лаврову, на улице Сен-Жак она ни разу не позвала Константина Николаевича. Он все замечал, не спорил, не горячился, а делал то, что делал: писал Людовика и Петра, Петра и маркизу Ментенон, писал не увлеченно, но увлекаясь, однако понимал, что высшее и вместе кряжевое не здесь, не тут.
Веселый запах белил и стружек властно вторгался в профессорскую квартиру на Мясницкой – училище живописи, ваяния и зодчества ремонтировали. Зинаиде Степановне казалось, что она век тому оставила Соломенную сторожку и давным-давно обитает в своих навязчивых впечатлениях.
Но вот звонил ближний звон, медленный и тягучий, будто огромный желток растекался в белесом сумраке, и под этот вечерний благовест Флора и Лавра она робко, печально и радостно ощутила какую-то завершенность, только ощутила, не сознавая, смысла ее.
Она сидела у окна, закинув ногу на ногу, сцепив руки в замок на колене и покачивая ногой, и от этого мерного движения большая стеклянная стрекоза, приколотая к широкому поясу юбки, то вспыхивала, то угасала в отблеске закатного солнечного луча.
То, что открылось ей, было посвященностью: однажды и навсегда ты включена в круг жизни Германа. Эта посвященность не зависит от желания или нежелания Германа. И не зависит от того, что в круг ее, Зининой, жизни включен Горский.
Когда Германа навечно поглотил Шлиссельбург, было отчаяние, одиночество и была благодарность Горскому, тихому, деликатному Косте, от которого она не прятала свою скорбь. Но ни тогда, в Париже, ни потом, в России, вот до этого вечернего часа в пустынной и душной Москве, не открывалась ей посвященность ее: однажды и навсегда…
Она сидела у окна, стеклянная стрекоза вспыхивала осколком заката, на душе воцарялось необыкновенное спокойствие… Пошабашив, уходили со двора рабочие. Зинаида Степановна подумала о Бруно – прежним ли будет после свидания с дядюшкой, не переменится ли, ведь там, в Вильне, могут наговорить бог весть что… Но сейчас тревога не была пронзительной, а звучала, как под сурдинку, в ее печальном и светлом спокойствии.
Тамбовская улица, недальняя от вокзала, не могла похвастать старинными строениями, почтенный возраст которых, будь они даже и безобразны, сообщает улицам необщее выраженье. Нет, Тамбовская была обыкновенной губернской улицей с деревянными домами, в садах с жасмином и сиренью.
На Тамбовской в несобственном доме жил Всеволод Александрович Лопатин, тысяча восемьсот сорок восьмого года рождения, православного вероисповедания, беспоместный дворянин, семейный (жена и дочь), служащий бухгалтером на железной дороге. Младший брат Германа Александровича Лопатина, бывший студент Московского университета, из храма наук изгнанный по причине неблагонадежности, в тюрьмах сидевший, особым присутствием правительствующего Сената судимый по процессу 193-х народников-пропагаторов, из судебного зала удаленный за упорный отказ отвечать на вопросы господ сенаторов, отбывавший ссылки и пребывавший то под явным, то под тайным надзором полиции.
Некогда они с Германом составляли домашнюю «партию», она не враждовала с «партией» двух других братьев, но, что называется, думала по-своему. Те двое – славные ребята – двинулись по военной линии и теперь уже дослужились до штаб-офицеров, исправно командуя армейскими подразделениями. Продвижению в чинах ничуть не препятствовало то обстоятельство, что брат их родной был известным всей России государственным преступником и находился в пожизненном одиночном заключении в каторжной тюрьме, тоже известной всей России.
Всеволод Александрович не мог бы и словечком попрекнуть мундирных Лопатиных: они сострадали Герману. То было стародавнее фамильное чувство: в русских дворянских гнездах не так уж и редко возрастали крамольники. С тем же чувством помнил Германа и отец. Умирая в Ставрополе, отметил в своем завещании – шесть тысяч рублей моему несчастному сыну. На краю вечности отец все еще надеялся, что заточение Германа не будет вечным.
Но, в отличие от братьев и сестер, сострадание Всеволода определялось еще и духовным побратимством с Германом: оба, пусть и в разных рангах, числились в списках экипажа, потерпевшего крушение. И то, что он, младший, спасся, уцелел, живет-поживает среди садов губернской улицы, греется у домашнего очага, ходит в гости, прогуливается с дочерью по холмам, дышит вольным воздухом, может ехать в отпуск куда хочет, – все это увеличивало напряженность сострадания старшему брату.
О судьбе его думал Всеволод Александрович пристально. Ездил в Питер, к Даниельсону, тот по-прежнему жил на Большой Конюшенной и по-прежнему служил в Обществе взаимного кредита. Собрал книги, переведенные старшим братом, изданные в России, одни с именем переводчика, другие безымянно. Ряд увесистых фолиантов замыкала тоненькая брошюрка, отпечатанная много лет назад за границей – «Процесс 21-го». И беседы с Даниельсоном, и книги, и то, что случалось узнавать от товарищей, рассеянных бурями, и это изначальное родство по душе – все вместе постепенно, но пронзительно, ибо тут участвовало сердце, осветило последние полтора десятка лет жизни старшего брата: от сибирской одиссеи до роковой железной калитки в башне Шлиссельбургской крепости.
Обращение к переводам Спенсера не было всего лишь способом материального существования. То была потребность духовная. И вместе практическая. Коренные вопросы морали Герман приложил к тем революционным действиям, что отозвались эхом выстрела в Петровском-Разумовском. Тут мысль была долгая и почти фанатическая. Знаток «Капитала», Герман не склонен был все списывать на классовые отношения и социальные условия. Он не отрицал исторической активности личности и не усматривал в революции испепеление морали. И ему внятна была роль случайностей. Не замедляй они или не ускоряй «ход вещей», история была бы слишком мистической штукой. Нет, Герман не отрицал случайности, особенно такие как душевный склад лидеров, движителей кружков и партий. Маркс выходил из мира чистой этики в мир материальный, из мира персональных отношений – в мир социальных, Герман шел вслед, но оборачивался, оборачивался.