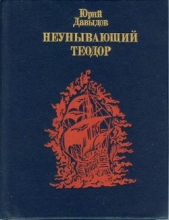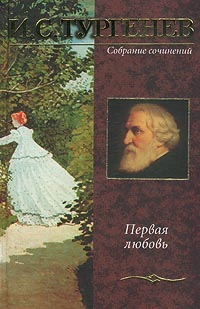Соломенная Сторожка (Две связки писем)

Соломенная Сторожка (Две связки писем) читать книгу онлайн
Юрий Давыдов известен художественными исследованиями драматических страниц истории борьбы с самодержавием и, в особенности, тех ситуаций, где остро встают вопросы нравственные, этические. Его произведения основаны на документальных материалах, в значительной степени почерпнутых из отечественных архивов.
В настоящем издании представлен полный текст романа, посвященного в основном выдающемуся русскому революционеру Герману Лопатину.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ну а тогда, в Вологде, Оленькина пра-, пра– и, наверное, еще раз пра-, тогда Марья Федоровна Кудрявая помогла снарядиться в дальнюю дорогу жене и сыну Германа Александровича. Они опять были его «авангардом» – уезжали в Париж.
А «главные силы» временно задерживались. Надо было тщательно подготовиться к противозаконному исчезновению. К какому по счету? «Да кто ж их считает?» – смеялся Лопатин.
Несколько месяцев спустя вологодская лопатинская «дружина» получила из Петербурга радостно-ироническую телеграмму: «Здоров, некогда, экзамены».
Есть магическое словосочетание: «странное совпадение». Говорю «магическое» потому, что прочтешь – «по странному совпадению» – и возникает ощущение достоверности. Может быть, именно оттого, что сказано «странное».
Я готов предложить совпадение, но всего-навсего календарное. При желании можно, пожалуй, узреть таинственные токи судьбы, но для меня, грубого материалиста, они неприемлемы.
Было так.
Поздним метельным вечером, в глухом местечке, едва заметной тропкой, известной лишь контрабандистам и кордонным стражникам, подчинявшимся министерству финансов, но кормившимся на финансы контрабандистов, по этой тропке беглый Лопатин пересекал границу Российской империи и Прусского королевства.
В тот же вечер в Париже, в многолюдном зале, ярко освещенном газовыми рожками, разыгрался скандал, и один из присутствующих, а именно художник Горский, снова увидел эту женщину в тяжелой шапке волос темного золота. Она уходила вместе с почтенным стариком, с которого он, Горский, мог бы писать умного боярина времен Московской Руси, если б нынче не услышал, что это и есть Лавров, «коновод нигилистов».
Вот уже год как Горский жил в Париже пенсионером российской Академии художеств. Каждое утро, легкий и стройный, сбегал он со своего пятого этажа и весело кланялся консьержу. Дородный привратник улыбался: этот русский – обворожительный малый.
Горскому было наплевать, сухо на дворе или панель при дождике подернута эдаким жирком, который, пардон, пованивает. Где бы ни застигал голод, Горский беспечально утолял его сосисками и сидром. И с удвоенной энергией посещал ателье парижских мастеров. На свою мансарду он возвращался сквозь рой каретных фонарей – красных, зеленых, белых. Отлично! Ты укладываешься в академический пенсион, нет нужды стучаться в дверь с объявлением: «Консульство предупреждает соотечественников, что не выдает никаких денежных пособий».
Первые месяцы Горский не брался за кисть. Была освобожденность. Не праздная, а праздничная: он посещал ателье парижских мастеров. Даровано было Горскому свойство, в живописцах нередкое, в поэтах и прозаиках редчайшее: умение оценить даже то, что чуждо, ощущение цехового братства. Он посетил Жерома и Лоранса, Бонна и Мункачи. Он увидел наконец работы Мане.
Горский писал этюды, писал и консьержа. Польщенный толстяк доставал бутылочку: «Настоящий кюрасо, мсье». А винцо-то было дрянное, на тех апельсинных корках, которые грудами выметали из парижских театров, сбывая дошлым виноделам. Не нравился Горскому этот кюрасо. И свои этюды тоже не нравились.
Это, однако, не убивало его интереса ни к выставкам акварелей на Вандомской площади, ни к встречам с собратьями в кабачке «Пуаро», ни к вечерам в клубе на улице Тильзит, или, как запросто говорили наши, на Тильзитке.
И в клубе, и в Обществе взаимного вспоможения русских художников старшим на рейде был Алексей Петрович Боголюбов – седоусый, седовласый, и эта зоркость серых глаз, как у впередсмотрящего на фрегате. А может, такая же, как у его деда, у Радищева.
Ну-с, что же нынче у нас на Тильзитке? Какая-то декламация? Пожалует сам Тургенев? Прекрасно!
В ярко освещенном зале, увешанном полотнами, рисунками и шаржами, Горский увидел завсегдатаев, но заметил и пришлых, прежде здесь как будто не виданных. Сюда, в клуб, где суетливым домоправителем распоряжался пейзажист Сакс, сюда-то эти люди пришли, кажется, впервые. То, что называют печатью среды, выдавало в них демократов, радикалов, а то и вовсе революционеров.
Вечер еще не начался, не было ни Тургенева, ни Боголюбова. Одни рассаживались, другие прохаживались, зал полнился гуденьем, все было б обыкновенно, когда б ни некоторая напряженность от присутствия «не своих» да не мелькал бы невсегдашний, какой-то оробелый Сакс, похожий на пастора, которому грозит отлучение от церкви (если, конечно, пасторов отлучают).
Здороваясь с приятелями и оглядывая собравшихся, Горский увидел молодую даму, ту самую, которую приметил недавно на выставке акварелей, поразившись тициановскому золоту ее волос. Издали наблюдая за ней, как она наклоняется, всматривается, отступает и опять приближается, он почувствовал, что главное в этой женщине не внешняя прелесть, не гибкость и не тициановское золото, а что-то не внешнее. Горский думал о ней и потом, когда она ушла, думал, покуривая в маленьком кафе, и внезапно решил: самостоятельная! Да, да, самостоятельная, независимая, отважная. Сейчас эта женщина стояла за спинкой кресла, прямая, горделивая и сумрачная, как Диана-охотница. Горский обрадовался, будто давно и тщетно искал ее, но тотчас понял, что радуется тому, что она не парижанка, не француженка, а русская, и это почему-то было очень важно и существенно. В кресле, за которым она стояла, положив руки на высокую спинку, сидел почтенный старик с лицом, – так Горскому подумалось, – умного боярина времен Московской Руси, и Горскому мелькнуло, что было бы куда как замечательно изобразить их вместе, эту Диану и этого боярина… В зале произошло движение, собравшиеся потеснились, сдвинулись, Горский тоже. Он оказался среди тех, кто окружил Боголюбова, появившегося в клубе.
Алексей Петрович, апоплексически красный, вздернув брови, допрашивал пейзажиста Сакса. Тот отвечал запинаясь, тоном человека, которому позарез необходимо напомнить пословицу о повинной голове и несекущем мече.
– Какие-то… неумытые, – кипятился Боголюбов. – Да кто они? Откуда? Кто пригласил?
– Право, не знаю, Алексей Петрович, – лепетал распорядитель-пейзажист, – Вроде бы ниоткуда… Сами пришли, ей-богу…
– А этот? Вон тот, в кресле-то, длинноволосый, этот кто?
– Лавров… Коновод нигилистов, – совсем смешался бедный Сакс.
– Батюшки, – ахнул Боголюбов, – да кто же этого-то звал?
– А он говорит: Иван Сергеич.
– Эка, Тургенев… – с сердцем молвил Боголюбов. – Ну, положим, Иван Сергеевич и пригласил, а он, видишь, всю свою челядь навел. – Боголюбов в страшной досаде ляпнул себя по ляжкам. – Решительно невозможно! А что же Иван-то Сергеич, а?
Боголюбову отвечали, что Тургенева не будет – прислал сказать, что заболел. У Алексея Петровича как гора с плеч, ну, стало быть, и вечер отменяется, нельзя без нашего принципала. Так и объявим! А не захотят, велю погасить освещение… Боголюбову стали возражать, что выйдет скандал, но тут в зале зашикали, Горский обернулся, увидел – чернявый молодой человек, мгновенно напомнивший Горскому задушевного друга Левитана, вышел на средину, угловато поклонился и стал читать стихи. Стихи были о том, как Каракозова ведут на казнь, а он думает свою последнюю думу о народе и свободе. Боголюбов опять ахнул, длинным белым пальцем забросил за ухо седую прядь, отчего стала видна его большая, словно кипятком обваренная, пунцовая ушная раковина, заговорил зычным голосом:
– Цель нашего общества и нашего клуба мир, а не революция! Это против устава и программы! И мы не позволим…
Все вскочили, стали стучать стульями и кричать; чтец-декламатор, бледный как мел, что-то сказал Лаврову, и «нездешняя» публика устремилась к выходу, походя костеря жрецов искусства трусами, лизоблюдами, глупцами, филистерами…
Горский, ошеломленно озираясь, на минуту пересекся взглядом с Дианой-охотницей, взгляд у нее был презрительный, и Горский быстрым шагом, как к барьеру, пошел вслед за «коноводом нигилистов».
На улице у подъезда Горский обратился к Лаврову: ему, художнику Горскому, стыдно за своих собратьев, но пусть господин Лавров не считает всех до единого подобными Алексею Петровичу Боголюбову, он, Горский, смеет заверить, что не только он стыдится, другие тоже, Алексей же Петрович попросту не желает получить выговор от посла, дойдет до Петербурга, но вообще-то черт с ними со всеми… Горский был очень взволнован и очень искренен, Лавров протянул ему руку, и эта женщина протянула руку, и еще кто-то, и еще. Горский пошел вместе со всеми, Лавров, усмехаясь, сказал, что все они подвергнуты остракизму, и «афинские изгнанники» вдруг страшно развеселились. Горскому тоже стало весело. Он взял фиакр и предложил отвезти домой господина Лаврова, любого, кто пожелает, он сейчас возьмет еще один фиакр, потому что вчера получил пенсион и богат, как Крез, и может себе позволить… Горский болтал, был развязен, сознавая, что поступил хорошо, благородно и это оценено, замечено, этому отдано должное, и он совершенно свободно обращался к Зинаиде Степановне, сидевшей с ним рядом в фиакре, в окошках которого мелькало и кружилось белое, красное, зеленое.