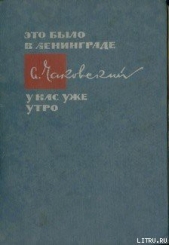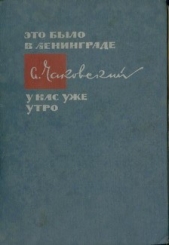Это было в Ленинграде. У нас уже утро
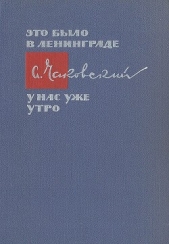
Это было в Ленинграде. У нас уже утро читать книгу онлайн
В настоящее издание вошли наиболее значительные произведения Александра Чаковского: трилогия «Это было в Ленинграде» и роман «У нас уже утро».
Трилогия «Это было в Ленинграде» (1944) — первое художественное произведение Александра Чаковского. Трилогия посвящена подвигу Ленинграда в Великой Отечественной войне.
Своеобразный лирико-публицистический стиль трилогии нашел дальнейшее развитие в романе «У нас уже утро» (1949; Государственная премия СССР, 1950), проникнутом пафосом социалистического преобразования Южного Сахалина в послевоенные годы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Брось, брось, — прохрипел редактор, — не скромничай. Ты мне вот что скажи: можешь изобразить что-нибудь такое зажигательное, насчёт того, чтобы в мирные дни работать по-фронтовому? У нас тут подборка идёт на эту тему, бывшие фронтовики высказываются. Так вот надо такой подвальчик, строк на сто, или нет — на сто пятьдесят. Можешь?
На фронте мне приходилось часто, чуть ли не ежедневно, писать небольшие публицистические фельетоны „с огоньком“. Я ответил:
— Попробую.
— Чего там пробовать, — возразил редактор, — садись и пиши. Сколько тебе? Час?
„Э, нет, друг, — подумал я, — так дело не пойдёт!“ Я сказал:
— Три часа, не меньше.
Мне поставили стол рядом со столом Андрюшина. Мой вчерашний проводник был уже на своём месте и радостно улыбался мне навстречу.
— А передовая-то, — подмигнул он мне, — вчера прошла без единой поправочки. Здорово!
Он, видимо, умел замечательно радоваться за других.
— Сумел подобрать материал, вот и получилось, — сказал я Лндрюшнну, переходя на „ты“. — Написать — это дело техники, навыка. Скажи-ка, где мне посмотреть подборку, которая идёт в завтрашний номер?
— У секретаря, — быстро ответил Андрюшин. — Я сейчас принесу.
Он выбежал из комнаты и через минуту вернулся с подборкой. Я стал читать. Материалы были действительно интересными. Бывшие фронтовики-офицеры — командиры рот, батальонов, взводов — и рядовые солдаты, ныне рабочие, бригадиры, мастера и начальники цехов, рассказывали о своей мирной, созидательной работе. Мне бросилось в глаза, что при всей значительности материал бесспорно выиграл бы, если бы был подан в менее однообразной форме.
„Надо так суметь написать подвал, — подумал я, — чтобы оживились и эти однообразные материалы“.
Через час подвал был готов. Я перечитал его. Получилось как будто неплохо. Я отнёс рукопись на машинку.
…Странное, давно забытое чувство с каждым днём все больше и больше охватывало меня.
У каждого человека есть старые впечатления, мирно спящие под напластованиями последующих лет. И когда что-либо снова вызывает их к жизни, с ними вместе возвращается юность. Она на какой-то — иногда очень-очень короткий срок — разглаживает на лице морщины, заставляет сердце биться сильнее…
Много лет тому назад, когда я был ещё совсем мальчишкой, мне довелось поступить на завод.
Шли первые годы первой пятилетки. Главное заключалось не только в гигантских строительных планах и в начавшемся уже их осуществлении. Главное было в изменении людей. Люди, самые разные по возрасту и характеру, становились энтузиастами. Пятилетка стала не только служебным, но и так называемым частным делом людей. Незаметно, в очень короткий срок и как-то совершенно естественно она сделалась мерилом дружбы, любви, смелости, таланта и многих других проявлений человеческой натуры.
Завод, на который я тогда поступил, был огромным комбинатом. Он выпускал самые разнообразные вещи — от победитовых резцов до электроламп. В нашем цехе делали электролампы. Рано утром мы, молодые рабочие, собирались в контрольном цехе. Мы нарочно приходили на завод за полчаса до смены, чтобы успеть встретиться в контрольном. Это была огромная комната, в которой день и ночь горело не менее десяти тысяч ламп. Здесь они проходили испытание на продолжительность горения.
Представьте себе это зрелище: десять тысяч установленных длинными рядами горящих ламп! Здесь было тепло, почти жарко, и так приятно было забежать сюда с мороза. Все в этой комнате выглядело по-волшебному необычно, — мудрено ли, что мы, мальчишки, так стремились сюда? Нам казалось, что все самое важное в нашей жизни заключено в том заводе и, больше того, что мы отвечаем, всерьёз отвечаем за всё то, что делают на этом раскинувшемся на километры заводе тысячи рабочих.
В те дни я был только подручным электромонтёра, а мои товарищи, участники наших сходок в контрольном, были подручными слесарей, токарей, прессовщиками вольфрама или тянульщиками молибденовых нитей. Со стороны наши сборища напоминали совещания у директора завода или что-нибудь в этом роде.
Мы обсуждали работу цехов, яростно критиковали начальство, распределяли обязанности в отряде „лёгкой кавалерии“, спорили о том, какой бригаде поднести „верблюда“ — символ плохой работы.
Страна переживала трудности, но мы не унывали. „Суп с головизной“ — неизменное первое в меню заводской столовой — нас вполне устраивал. Взрослые люди, рядом с которыми мы работали, жили так же. Вместе с ними мы приезжали на завод за час до работы и уходили с завода поздно ночью. То было чистое, без копоти, горение.
С тех пор прошло много лет, и каких лет! Эти годы, и особенно годы войны, отодвинули, заслонили далёкие ощущения юности. Но странное дело: уже теперь — это было в конце третьей недели моей работы на заводе, — войдя в мартеновский цех, где, точно таран, бросалась на мартен завалочная машина, я вдруг испытал то самое, давно забытое ощущение, которое охватывало меня, когда много лет назад я торопливо вбегал в цех контрольных ламп.
Да-да, это было то же самое ощущение тепла и какого-то деятельного, нервного ожидания, ощущение того, что вот здесь-то и есть настоящее и сюда надо стремиться. Я не сразу отдал себе отчёт во всём этом. Сначала было только одно: воспоминание о той комнате, сверкающей накалённым светом, и ощущение себя каким-то другим, более молодым и смелым.
…Работа в редакции мне нравилась, и отношения с коллективом у меня были прекрасные. Мою фамилию уже знали на заводе, по крайней мере так уверял меня Андрюшин, который весь день пропадал в цехах.
Каждое утро мы вместе с Лидой уезжали на завод, на дню я обязательно два-три раза забегал к ней в лабораторию, но домой часто возвращался один: Лида задерживалась на работе до позднего вечера.
В течение последних дней мы изготовили ещё несколько конструкций индукторов. Мы приобрели уже большой опыт в этом деле.
Одна из этих конструкций показалась нам очень подходящей для закалки „лесенки“, и мы решили снова попробовать закалить эту деталь…
В тот вечер к нам в лабораторию зашёл Иванов. Высокий, чуть сутуловатый, в прожжённой, надвинутой на лоб кепке, он прошёл прямо в комнату, где сидели мы с Ириной, и угрюмо спросил, не здороваясь:
— Ну как? Все пятнышки? Не даётся сталь. А?
Ирина раздражённо пожала плечами. Она могла говорить, не теряя самообладания, о чём угодно, кроме закалки.
— А ты не злись, инженерша, — успокоил её Иванов. — Давай-ка вечером покалим. Может, заговорю я твою сталь.
— Иван Иванович, вы этим делом не шутите, — заметила я, — мы места себе не находим четвёртый месяц.
Иванов промолчал.
— Но в чём же твой секрет, Иваныч? — разволновалась Ирина. — Что ты хочешь сделать?
— Сталь хочу закалить, и чтобы без пятен, — пробурчал Иванов.
Ирина пожала плечами.
— Как ты полагаешь, додумался? — спросила она меня, когда Иванов ушёл.
— Кто его знает, — ответила я. — Ты ведь Иваныча знаешь. Только мне кажется, что если он сам пришёл и так определенно сказал, значит…
— Неужели выйдет? — мечтательно проговорила Ирина, отодвигая в сторону микроскоп, в который разглядывала срез металла. — Я просто представить себе не могу, что завтра проснусь — и первая моя мысль не будет связана с неудачей.
Мы едва дождались вечера. Пришли к агрегату и подготовили все для закалки.
Появился Иванов. Он ничего не сказал, только сдвинул па затылок кепку и оглядел нас и всё, что было в этой комнате, своими маленькими колючими глазками.
— Ну, — нетерпеливо крикнула Ирина, подбегая к нему, — ну, говори, что делать, Иваныч?
— Это я с тобой хотел посоветоваться, что делать, — ответил Иванов, присаживаясь на подоконник.
— Иваныч! — в отчаянии воскликнула Ирина.
Лицо старика как-то незаметно изменилось. Не дрогнул ни один мускул. Иваныч не улыбнулся, а прищурился, но внезапно во взгляде его мелькнуло что-то отечески доброе. Впрочем, может быть, мне это только показалось.