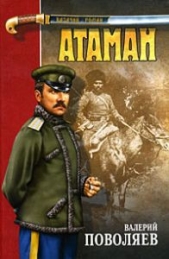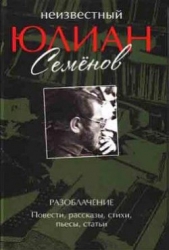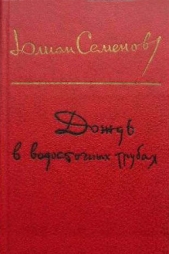Атаман Семенов

Атаман Семенов читать книгу онлайн
Новый роман известного современного писателя Валерия Поволяева воссоздает картины жизни России начала XX века: Первой мировой войны и беспощадной борьбы, развернувшейся на нашей земле в годы войны Гражданской.В центре внимания автора — один из руководителей антибольшевистского движения в Забайкалье, генерал-лейтенант Г. М. Семенов (1890-1946).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вырлан кинулся в саран. Огонь в плите, на которой стояла золотая жаровня, еще не прогорел, поухивал басовито, грозно, щелкал искрами, защитный колпак соскочил с жаровни, в сарае пахло какой-то странной острой химией, будто в цеху по производству « о’де колона». Вырлан попятился назад, вывалился на мороз, продышался, натянул на нос башлык и снова нырнул в сарай.
Около плиты, скорчившись улиткой, откинув в сторону неестественно белую, с черными пальцами руку, лежал Козерогов.
— Ах ты, Коза, Коза... — глухо пробормотал прапорщик в башлык, ухватил казака под мышки и поволок к двери.
Выволок на последнем дыхании — у Вырлана кончился запас воздуха, и он закусил зубами ткань башлыка — боялся закашляться и хватить ядовитой гадости, — выволок и, не удержавшись на ногах, сел в снег.
Дед наклонился над Козероговым, затряс его:
— Эй! Милый! — Голова Козерогова мотнулась безвольно один раз, другой и замерла. Дед снова затряс его, потом остановился, стянул с головы шапку и опустил руки. — Все, — молвил он горестно, — тут мы, человеки слабые, совершенно бессильны.
Козерогов был мертв, прапорщик неверяще покрутил головой, откинулся назад, с горечью глянул в белое, уже заострившееся лицо Козерогова и раздернул тесемки у башлыка.
— Э-эх! — произнес он с далеким сожалеющим стоном.
— Бог дал, Бог взял, — рассудительно проговорил старик, толос его по-прежнему был угрюмым. — Не надо было оставлять его в сарае, на жаровне.
— Это моя недоработка, — горько произнес прапорщик, — я его к жаровне определил, думал, что он с ртутью будет осторожен, а Козерогов дал маху. Лучше бы мы его определили в забой... Я виноват.
— Ты, молодой человек, ни в чем не виноват, — успокоил Вырлана старик. — Просто на этом человеке уже стояла печать, он должен был отойти... Если не здесь, так в другом месте. Золото свою плату всегда брало человеческими жизнями и будет брать впредь. Вот металл и забрал очередную мзду — Козерогова.
Вырлан докрутил головой протестующе — он не хотел в это верить. Но верь не верь, этим не поможешь. Козерогова не стало.
На следующий день рядом с заснеженной могилой Емельяна Сотпикова возникла еще одна могила — Козерогова.
Зима пролетела быстро. Собственно, в Порт-Артуре ее не было: вместо снега с небес сыпалась серая холодная мокреть, впитывалась в землю, от земли шел пар, было душно; атаман, вспоминая забайкальские зимы с их буйными морозами и лихими рождественскими тройками, нервно ходил по кабинету, скрипел сапогами, думал о чем-то своем, никому не ведомом; подглазья у него набухали мешками, лицо делалось темным, усы дергались косо.
Главными для него сейчас были новости, что приходили из Владивостока. Если они были хорошими, атаман добрел, глаза его делались мягкими, искристыми, с подчиненными говорил ласково — тон этот для них был незнаком, но, получая что-нибудь недоброе, становился лютым, как во время карательных операций, а при их проведении атаман не задумывался, сжигать, допустим, какое-нибудь село или нет, альтернативы для атамана ж было — сжечь.
Как ни странно, но только здесь, в Порт-Артуре, Семенов впервые по-настоящему осознал, что существует такое понятие, как свободное время, и что иной человек, случается, по-волчьи воет, если этого времени у него оказывается чересчур много. Деятельный, капризный, с Железным мотором вместо сердца, он относился именно к этой категории людей... В слякотные дни порт-артурской зимы он подумал, что надо будет время от времени браться за перо, поработать не только шашкой, но и ручкой, в которую вставлено «золотое рондо». И хотя мысль эта вызвала у него раздражение, — податься в писаки? Ну уж дудки! Никогда и ни за что! — но Семенов не был бы Семеновым, если бы не сломал самого себя.
Впоследствии он написал: «Пребывание мое в Порт-Артуре продолжалось с 7 декабря [76] по 26 мая 1921 года. Время это было потрачено на преодоление всяких препятствий к намеченному плану — перевороту в Приморье, причем я с грустью вспоминаю, что многие мои агенты на местах не только не оказали мне какой-либо помощи в этом деле, во своим образом действий портили его и восстанавливали против него представителей иностранного командования, еще оставшегося на российской территории».
Штабс-капитан Писарев считался среди семеновцев верным человеком, который ни при каких обстоятельствах не предаст атамана. Хоть и происходил Сергей Артамонович Писарев из купеческого сословия, но закваску имел дворянскую, даже грассировал, как дворянин, — был с милой французской картавинкой. Комплекцию он имел мощную, однажды на спор сумел с одного удара отрубить голову быку. Правда, и оружие у него в руках было достойное — тяжелый самурайский меч с длинной двойной рукоятью.
Но все равно силу для такого удара Писарев должен был иметь не меньше, чем имел тот несчастный бык.
Лысый, с густой рыжеватой бородой и цепким взглядом, Писарев любил жизнь — и выпить был не дурак, и по части ухватить за репчатую пятку голоногую девку тоже не промахивался, а уж по части рыбалки... Тут Писареву не было равных. Ловля трепангов с выездом на яхте на пустынные живописные острова или мелкого красного лосося прямо в море — из такого лосося уха получается такая густая, что ложка стоит в ней, как в загустевшем повидле, вытащенном из погреба, не падает. Купчишки, что приезжали к Бринеру из Китая, из Сингапура, из Сиама, отведав этой ухи, восклицали потрясенно: «О-о-о!» — и долго не могли закрыть рот. В общем, бывший штабс-капитан мог организовать нужным людям отдых по первому разряду и ни разу в этом не подвел хозяина.
Жизнью своей бывший штабс-капитан был доволен и иногда ловил себя на недоуменной мысли: а чего это он раньше относился к гражданский «шпакам» с таким пренебрежением? Это приличные люди, очень неплохо живут — во всяком случае, много лучше, чем офицерская братия.
А уж сейчас, когда не стало царя и Дальний Восток зашевелился, расцвел, когда можно открыть свою собственную контору в Сиаме или в Сингапуре, а нежного здешнего лосося морем можно доставить даже в «туманный Альбион», совершенно не знающий, что такое пробойная красная икра, тающая во рту, и копченый чавычий балык слабого посола, легче легкого сделаться миллионером и стать владельцем счетов в банках Бельгии, Англии, Франции, Северо-Американских Соединенных Штатов. И такие счета у Писарева имелись.
Зимние вечера во Владивостоке — шумные, кого только не встретишь в галдящих компаниях.
Все дни подряд, до самого утра, призывно светились огни ресторанов — в те, что располагаются на набережной бухты Золотой Рог, невозможно было попасть, спасали только связи да обаяние Писарева. По городу на высоких местах были расставлены рекламные щиты — американская новинка, — представляющие роскошные пароходы графа Кейзерлинга, совершавшие регулярные рейсы в Сингапур. В Морском офицерском собрании давали балы, на которых играло сразу четыре оркестра. На улицах корейцы торговали свежими розами и редиской, хрустящей соблазнительно, только что с грядки (и как только они умудряются выращивать розы и редиску в снегу — уму непостижимо). Богатые дамы на автомобилях подъезжали к универмагу Кунста и Альберса покупать последние парижские новинки — туалеты с пуговицами из зеленого арабского золота и большим количеством кружев.
Пароходы господина Жебровского — впрочем, обращение «господин» во Владивостоке, охваченном демократическими преобразованиями, стало немодным, в моде было слово «гражданин», — привезли из Европы несколько контейнеров божественнейшего «о’де колона», который полюбили не только местные красотки, но и морские офицеры.
Запах моря, пространства, ветра, чужих земель, которым всю жизнь были пропитаны мореплаватели, теперь не был в почете, в почете был дух мадагаскарского «эланго-эланго» — самого дорогого и стойкого цветочного масла в мире, и лаванды, растущей на полях Нормандии.
В сквере Невельского по вечерам играл оркестр Флотского экипажа, и туда на «променад» ходили принаряженные матросы, которых отпускали на берег до двадцати двух ноль-ноль, себя показывали, наивных круглоглазых барышень высматривали, чтобы завести любовь, широкую и бурную, как море, а те, кому было невтерпеж, сразу бежали на Миллионную улицу, где можно было найти вое — и выпивку с закуской, и бабу с задом, напоминающим тендер паровоза, и опиум, чтобы, покурив, забыть эту отвратительную жизнь, нищету и боль.