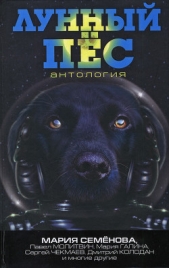Государь всея Руси
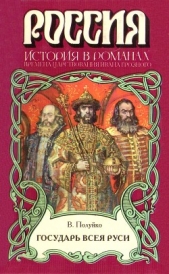
Государь всея Руси читать книгу онлайн
«Таков был Царь; таковы были подданные!
Ему ли, им ли должны мы наиболее удивляться?
Если он не всех превзошёл в мучительстве, то
они превзошли всех в терпении, ибо считали
власть Государеву властию Божественною
и всякое сопротивление беззаконием…»
Н.М. Карамзин
Новый роман современного писателя В. В. Полуйко представляет собой широкое историческое полотно, рисующее Москву 60-х годов XVI в. — времени царствования Ивана Грозного.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Заткнись! Хватит галаголить! — оборвал он Никишку. Тот с неожиданной покорностью умолк и тут же, не сходя с места, плюхнулся на землю, скрестив по-татарски ноги, — слюнявый, заедный рот его внемлюще раззявился на Щелкалова.
— Тяжкая вина на вас, мужики — спокойно заговорил Щелкалов, уже решивший, что сделать, и увидел, как враз напугал их своим спокойствием. К брани и лютости они давно попривыкли и загодя знали, чего ждать от них. Чего ждать от такого спокойствия — не знали, и страх пронизал их, видать, до пят. — За такое великое нестроение [205] быти вам от государя в великой опале... Буле, даже и в смертной. Понеже не токмо зло нерадивости исплодилось у вас, но и великая крамола. Кра-мо-ла! — повторил он с нажимом на каждый слог этого зловещего слова.
Мужики обречённо поникли.
— Не по первому уж году слежу я, — гнул далее Щелкалов, — как чтите вы царское государское дородство. Орлы царские — не иначе как в противу! — оставлены вами без догляду. Не поновляются сколько уж лет? А то ж честь царская и гроза!
Мужики, должно быть, тоже только сейчас узрели, что сталось с царскими гербами, узрели и вовсе пали духом. Знали: за такое и вправду снимут голову.
— За татями вам смотреть положено, а за царскими орлами — втройне! Бо не пригожести ради явлены они тута, а для знаменования царской власти, коя пребывает надо всеми — и над татями, и над вами, крамольниками!
— Да нешто мы по умыслу? — лепетнул кто-то в отчаянье. — По недосмотру. Истинный Бог, по недосмотру!
— Василий Яковлевич, смилуйся Христа ради! — запросились мужики. — Не изволь сказывать на нас крамолу! А мы ужо тебя не подведём — тое всё споро поправим!
— Не в моей власти миловать вас, — ответил непреклонно Щелкалов и самодовольно подумал: «Вы мне тех орлов из серебра поделаете, анафемы!» — В моей власти — всадить вас в тюрьму. И я изволю тое учинить. И ежели сами сядете, без приставов, тое вам зачтётся. Я и сам о вашей покорливости слово замолвлю. Буде, и выйдет вам какая послабка... Ежели ещё и орлов поновите не мешкая... До вельми чудного вида... Чтоб государю про то доложить по досугу [206] и испросить на вас милости.
— Сядут, все как есть сядут, Василь Яклевич, — торопливо, с угодой заговорил староста. — Самохотно, без приставов... И с орлами не замешкаемся. Токмо ты уж помилосердствуй, замолви словцо. Пущай ить водвое сыщут за татей, а крамолу бы умалили... Невольная она, Василь Яклевич!
...Щелкалов, уезжая из тюрьмы, куда безо всякого труда, одной лишь хитростью и находчивостью, засадил всех тюремных сторожей вместе с палачом, ещё раз напомнил старосте, чтоб завтра непременно явился в приказ. Удастся ли принудить страхом мужиков раскошелиться на серебряных орлов, чтоб и вправду доложить об этом государю (с иной, разумеется, целью), — он не знал; не знал, сумеет ли, как задумал, проучить Невежу Лазарева, зато твёрдо знал, что если в ближайшие дни в тюрьму явится надзиратель пересчитывать сидельцев, как предписано ему законом, — счёт им будет полный.
2
К брату Василий приехал в духах. Редко бывало ему так покойно и мирно. В душе — ни горчинки, будто он только что на свет народился. Даже кафтан перестал донимать. Забыл и про него. Забыл и про мужиков, всаженных в тюрьму. Впрочем, не то чтобы забыл, но думал об этом деле так, будто оно совсем его не касалось. Будто всё произошло совсем не по его воле, и не он, а кто-то другой возвёл на мужиков крамолу и всадил их в тюрьму, а он лишь наблюдал за всем происходящим со стороны, вчуже дивясь, однако, что каким-то чудесным образом всё вершилось именно так, как хотелось ему.
Эта отстранённость и эта лёгкость, с которой душа приняла сегодня свершённое им зло, удивили его, но удивили приятно, и мысли, затронутые этим удивлением, тоже были приятны и покойны. Он думал — но опять же не как о себе самом, а как о каком-то ином, постороннем человеке, человеке вообще: «Чудно устроена душа человечья! Сколь ни хлопочешь о добре, сколь ни стараешься, ни печёшься о благом, о праведном, а она всё саднит, всё полнится угрызениями. Сотвори зло, неправду — и вот: будто и нет той души! С чего, однако, так? Вот бы знать!»
Но знать не хотелось. Удивление не жаждало смениться удручённостью либо унынием. Удивление хотело остаться в нём — во всяком случае, сегодня, сейчас! А завтра... Завтра, может, всё будет наоборот: где было лево, там станет право, чёрное превратится в белое, зло обернётся добром, а добро — злом, и люди станут не людьми, а оборотнями. Завтра было так далеко и так неопределённо, что в это далёкое-предалёкое завтра можно было даже согласиться и помереть. Быть может, оно и вовсе могло не настать.
Василий Щелкалов, въезжая к брату на подворье, ссаживаясь с коня у крыльца, поднимаясь по его крутым ступеням в горницу, наслаждался сегодняшним, наслаждался покоем и миром в своей душе, наслаждался так, как будто завтра и в самом деле не должно было наступить.
— А, Василей?! — радостно, но не без доли вальяжности вскричал Андрей, как только он переступил порог горницы. — Не позабыл, стало быть, брата?!
Василий перекрестился на божницу, поклонился Андрею, только после этого дозволил себе улыбнуться.
— Здравствуй-ста, братка!
Облобызались.
— А я уж, грешным делом, подумал: чупясится Василей, не хочет ехать к брату на поклон. Сам намерился...
— Ври, ври, братка, — улыбался Василий. — Ещё скажешь, и конь у крыльца копытит?
— Вру, вру, братец, — добродушно сознавался Андрей, — На радостях язык голомолзит. От заутрени я... Ох, обновился душой! Там, у татарови, сколь ни ходил в церковь, а истинную благостыню приял токмо дома. Своя сторонушка, тут пупок резан! И душа чует сие, чует!
Василий отстегнул епанчу, снял кафтан — кинул на лавку.
— Садись, братец, к столу, — широко пригласил Андрей. — Будем, знаешь, араки пить. Настоящее! Татарское! На кумысе заквашенное. Цельной бурдюк припёр из Казани.
Он вышел в сени, кликнул, чтоб принесли араки и доброй е́жи к ней, вернулся, сел напротив Василия.
— Гаведь, скажу я тебе, изрядная!
— Так на кой её пить?!
— Какой же ты русский, ежели самой что ни на есть дряннейшей дряни не испробуешь? Я её в Казани так напробовался, что чрево моё по-татарски вещать стало. Вот же смотри: почитай, триста лет угнетали Русь, сколько добра всякого выгребли, а самого наипервейшего — пития нашего русского — не переняли.
— Буле, потому так долго и угнетали, — сказал Василий. — У них, сказывают, и поныне хмельного не пьют.
— Теперь уж пьют! Успевай подносить! Нагляделся я... Всё у них там теперь пошло на разлад. Хозяйство, правда, по большей части покуда в их руках, понеже наши руки ещё до многого не доходят... А власти уж нет. Не господа более. Разве что над инородцами — по старому обычаю... А так всё — кончилось их время, навеки кончилось!
— Рассказал бы, — попросил Василий, — что там в Казани?
— Да что про Казань-то сказывать? Казань вся в государевой воле. Что в Москве? Вот о чём расскажи!
— Худо в Москве, — вздохнул Василий, и радостное сегодня кончилось для него. — Худо, — повторил он ещё раз — уже с надрывом и тоской, словно это худо касалось лично его.
— Всегда так! — сказал с сердцем Андрей. — Хуже, чем у нас, не бывает, должно быть, нигде... Даже у татар!
— То уж точно, — согласился Василий и принялся рассказывать.
Многого он, правда, не знал: с его-то колокольни сколько увидишь?! А и увидишь — много ли уяснишь?! Умные люди давно изрекли: всяк смотрит, да не всяк видит. Верно изрекли. Видит тот, кто смотрит мысленным взором. Ежели голова на плечах есть, тогда и малая колокольня не помеха. Головой Василия Бог не обидел. Душу дал мятущуюся, а голову подобрал крепкую, не только для шапки, как говорится. Работала, одним словом, у него голова, и очень неплохо. Ягод по цветочкам угадывать, правда, не силился, но к цветочкам пригляделся внимательно и кое-что уяснил. О том и повёл речь.