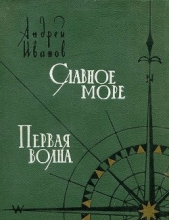Черные люди
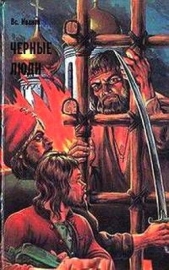
Черные люди читать книгу онлайн
В историческом повествовании «Черные люди» отражены события русской истории XVII века: военные и дипломатические стремления царя Алексея Михайловича создать сильное государство, распространить свою власть на новые территории; никонианская реформа русской церкви; движение раскольников; знаменитые Соляной и Медный бунты; восстание Степана Разина. В книге даны портреты протопопа Аввакума, боярыни Морозовой, патриарха Никона.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А Никон где? Патриарх! Ано с бабой, с царицей, убежал! Нас, народ, кинул. Попы за ним бегут, дьяконы, церквы стоят без пенья… — вперебой звенели голоса.
— Пусть царица лучше изволит вернуть патриарха! Помрем все, и отпеть-то нас, сирот, некому.
Гремел нарастающий конский топот, заалелись над толпой кафтаны сеунчей, лихие их шапки набекрень, закрестился князь Михайло Петрович.
— Сеунчеи альбо што? Они и есть!
— Народ! — кричал Васька Данилин, сдернул шапку, маша ею. — Народ! Государевы рати Смоленск взяли! Взяли! Москва!
— Москва! — отозвался троекратным эхом народ. — Москва! Многие лета государю! Москва!
— Народ! — стал кричать надрывно князь Пронский, махая руками. — К Лобному месту ступайте. Молебен петь. Москва-а!..
— Москва-а! — гремел народ.
Солнце садилось, тени от башен Кремля легли длинно, гремели колокола по Москве, горели свечи в фонарях, на Лобном месте служил благодарственный молебен Питирим, митрополит Крутицкий, гремело могучее, ликующее многолетие царю Алексию-победоносцу, гремел пушечный салют.
— Ой, недужен я, князь! — проговорил Пронский товарищу по должности, князю Хилкову, выбираясь из возбужденной толпы. — Спас Никона царь-то! Мало бы ему не было! Ох, худо мне!
— За победу наши муки все простят, княже! — отвечал князь Иван Васильевич и, подняв посох, шагнул в повозку, Обернулся на ходу: — Ну, а ежели с врагом не выдюжим?
— Не прогневайся, от народу мало не будет!
Утоп в осеннем дожде Макарьевский монастырь под Калязином, низко волокутся серые облака, березы да осины отряхают свои рыжие кудри, несокрушимо зелены широкие кроны кедров, глядят из-за белокаменного пояса ограды между башнями.
В старинной келье высокие беленые своды с железными перехватами, в келье молодая царица сидит Марья Ильинишна, царевича Алексея белой грудью кормит, вспоминает московский царев Верх. Ох, худо здесь, в окна дует, дождь струит по окошкам, деревья головами трясут, стужают: «Ай-ай, царица, где сидит, куда убежала?»
Одно счастье — детище, царевич Алексей Алексеевич, гулит, губками чмокает, сосет, ему уж по седьмому месяцу. Дуня-царевна толстыми ножками топает, ей по четвертому годочку. Марфуше-царевне нет и двух. Обе девки больно утешные, в сарафанчиках алых, коски торчат с косоплетками, щеки у обеих нарумянены, смеются обе. Шум стоит в царицыных кельях, смех, возня, бабья, девичья болтовня, подолы шуршат, боярыни ближние павами плавают. Тут сестрица царицына живет, Анна Ильинишна, морозовская жена, старого боярина Бориса Иваныча, каждый день наряды меняют, княгиня Репнина Василиса Фоминишна — толстющая, квашня квашней, еле ноги распухшие таскает, да Шереметьева Маремьяна Дементьевна, из грузинок, лихая, черноглазая, черт чертом, да еще Салтыкова Фекла Михайловна — ну Фекла Фекла и есть, — да матушки и нянюшки, да сенные девки.
Много!
Спят по кельям вповалку, царицыны жильцы по коридорам шныряют — ну какой тут порядок может быть?
А рядом, тут же, и патриарх Никон в кельях живет.
Сперва на Москве патриарх приказал от чумного наваждения заложить в царевом Верху в Кремле все окна, чтоб язва не прошла. Заложили, а люди все мрут. Ну и увез патриарх царицу из Москвы, оберегает он царицу. Соблазн большой! И самому патриарху еще больших годов нету, еще в крови мечтанье, а царица как цветок румяна, девки по двору мимо кельи бегают, патриаршьи чернецы, как стоялые жеребцы, фырчат, глазами зыркают. Разве это монастырь! Блудилище!
И свирепеет патриарх день ото дня — из трапезной, почитай, не выходит, суд да расправу чинит над попами: кого плетками стегать велит, кого на цепь сажает, кому литургисать [103] запрещает, — стон, плач, крики, неблагочинье.
Гневен сидит патриарх, четки перебирает, очами сверкает, а за окном дождь анафемский, холод, из-за дверей царицыны девки поют ладно:
Иногда глаза патриарховы даже и в немецкие очки не видят от гнева. Пишет ему донос из Тобольска архиерейский дьяк Евфимий Струна:
«А тот, господине, распоп [104] Аввакумко, что меня бил да по церкви волочил, тебя, государь великий, бесчестит всякой лаею — ты, патриарх-де овчеобразный волк! Я-де высмотрел его, сатану, давно, великий он обманщик! В окно из палаты деньги нищим мечет, едучи, золотые кидает народу. А народ-то слеп, хвалит — «государь миленькой, не бывало такого от веку!» А бабы молодые и черницы в палатах у патриарха временницы, тешат его, великого государя пресквернейшего! Антихрист он! А иные речи и сказывать соблазнительно!»
Встал Никон, борода взъерошена, глаза в икону упер, перекрестился.
— Дьяка послать! — крикнул могуче он, перекрывая все другие звуки.
Песня оборвалась.
Вбежал дьяк в долгом кафтанце, поправляя ремешок на волосах. Никон указал ему на стол:
— Садись! Пиши враз наш, святейшего патриарха, указ. В Сибирский приказ. Оного распопа Аввакумку Петрова из Тобольску слать дале, на Лену-реку, за то, что лает да бранит патриарха…
В дверь кельи царицы постучали:
— Господи Иисусе Христе, помилуй нас!
— Аминь! — зааминила царица.
Со скрипом распахнулась дверь, вошла боярыня Морозова Федосья Прокопьевна, молодая, что цветок полевой, что недавно за вдовца Морозова Глеба Иваныча, боярина, брата Бориса Иваныча, вышла. Стала смирнехонько в темной телогрее, тонкие ноздри дрожат, поклон отдала, тянет царице Марье грамоту:
— Отписка тебе, матушка царица, с Москвы.
— Окурена ли серой-то? — спросила царица, протянув было руку, да отдернула назад. — Сама ты и чти. Алеша-то мне не дает, ножками бьется.
— Через огонь грамотка переслана, как можно! — сказала Федосья Прокопьевна и зачитала внятно:
— «Спрашивала ты, матушка царица Марья Ильинишна, и царевич Алексей Алексеевич, от князя Пронского Михайлы Петровича вестей, что деется на Москве. И отвечает вам, государи мои, Хилков, — другой Иван Иваныч. Волею божиею боярин князь Михаил Петрович Пронский чумою помер, а на другой день боярина князя Ивана Васильевича Хилкова не стало же. А окольничий князь Федор Андреич Хилков лежит при смерти же, болен, да я, холоп ваш, с часу на час жду смерти же. А поветрие моровое на Москве не утишается и теперь больше прежнего. И в монастырях, государи мои, на Москве в Кремле — в Чудове, в Вознесенском и на Троицком, и на Кирилловском, и Спасском, и на Симоновском подворьях, и в Китае-городе — в Богоявленском, Знаменском, и в Ивановском, и в Рождественском, и за городом — у Спаса на Новом, и в Андроньеве, и в Девичьем, и во всех монастырях старцы и старицы померли многие. И казны стеречь некому, и церкви в Кремле стоят без пенья.
А торговые люди в лавках, и хлебники, и калашники в харчевнях не сидят, а торговые ряды все заперты.
А учали теперь быть дожди великие и дни посморные. А на боярских, государи, и окольничьих, у думских и ближних людей дворах жильцов осталось людей по два, по три.
И грабежи, государи, объявились: в Белом городе разграбили Осипов двор Костяева да Алексеев двор Луговского, и иные многие выморочные пустые дворы грабят, а сыскивать, государи, про тех воровство и воров унять некому.
А у тюрем, государи, стояло стрельцов по 30 человек, да от черных сотен целовальников и сторожей по 26, а иные и целовальники, государи, и сторожа по тюремным дворам — волей божьей померли, да и тюремные сидельцы от язвы каждый день мрут.
И впредь, государи, от воров, от тюремных, и от литовских людей, и от крымских татар, которые в плену, как бы дурна не учинялась, а оборониться, государи, и воров унять некем. И о том, великие государи, вы нам, холопам своим, государев приказ объявили бы…»