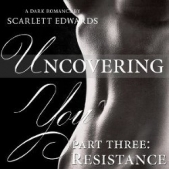Площадь отсчета

Площадь отсчета читать книгу онлайн
1825 год. В Таганроге умирает бездетный император Александр1. Его брат Константин отрекается от престола. Третьему брату, Николаю, двадцать девять лет и он никогда не готовился принять корону. Внезапно он узнает, что против него замышляется масштабный заговор. Как ему поступить? С этого начинается исторический роман «Площадь отсчета».
Роман читается легко, как детектив. Яркая кинематографическая манера письма помогает окунуться с головой в атмосферу давно ушедшей эпохи. Новизна трактовки давно известной темы не раз удивит читателя, при этом автор точно следует за историческими фактами. Читатель знакомится с Николаем Первым и с декабристами, которые предстают перед ним в совершенно неожиданном свете.
В «Площади отсчета» произведена детальная реконструкция событий по обе стороны баррикад. Впервые в художественной литературе сделана попытка расписать буквально по минутам трагические события на Сенатской площади, которые стали поворотным пунктом Российской истории. А российская история при ближайшем рассмотрении пугающе современна…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сергей Петрович все время желал открыться Каташе — и смертельно боялся ее осуждения. Недавно, в Киеве, она, кажется, поняла, чем он занят: «Поклянись мне, Серж, что ты никогда не станешь Робеспьером!» Он с готовностью поклялся, и поклялся искренне. Во–первых, ему столь же, как и ей, противен был Робеспьер. Во–вторых, по нраву своему Сергей Петрович и не чувствовал в себе сил сделаться Робеспьером.
Тогда утром, когда Якубович с Булатовым ворвались к нему в дом и заявили, что не поведут войска на Зимний, он все понял. План рушился. Как бы ни был он неисполним по сути своей, это все–таки был план. Без плана, и он это сразу понял, начнется кровавое безумие, в котором не имел он никакого права участвовать. Тогда же должен был он и объявить все жене, но малодушие — да, малодушие или Провидение — распорядились им по–другому. Он не мог сейчас свободно писать Каташе — письма его читались неизвестно каким количеством людей — но в глубине души он верил, что она и так поймет. Кроме того, Сергей Петрович почему–то верил и в то, что она уже все поняла. Намерения его были самые благородные. В то же время, тайна, на протяжении всех этих лет лежавшая между ним и любимой женщиной, делала из него подлеца.
И как будто нарочно, во время последних допросов, члены следственной комиссии, заседавшей в комендантском доме, умудрялись постоянно попадать в самую болезненную точку в его душе, растравляя рану. В комендантском доме было зеркало, на которое он бросил взгляд с удивлением: он не представлял, насколько худ и бледен. Краше в гроб кладут. Ему стало жалко себя, и грубые окрики членов комиссии, которые поначалу наперебой набрасывались на него, как на бешеную собаку, чуть не довели его до слез — так он был слаб и болен. Хуже всех был Бенкендорф. Тот не кричал, а беседовал особенно добродушно, как будто они встретились в очередной раз в чьей–то гостиной. И этот его фамилиярный тон как–то особенно подчеркивал, насколько переменились их отношения. В некрасивом, вечно помятом лице генерала сквозило самое очевидное любопытство. И еще во всем его облике чувствовалась какая–то новая уверенность в себе. Звезда его стояла высоко: он пользовался дружбою и доверием молодого государя. От этого французская непринужденная его болтовня приобретала неприятно–покровительственный оттенок.
— Ну что ж, князь, — лениво интересовался Бенкендорф, развалившись в кресле, — как именно вы провели вечер тринадцатого числа? Я полагаю, что, когда все было положено между вами, вы, возвратившись домой, поверили все княгине, вашей жене?
— Нет, генерал. Я жене ничего не поверял, она знала не более, как и вы, — стоя перед ним в оковах, тихо говорил Сергей Петрович. В этот момент ему особенно тяжело было искать и находить в себе хоть искру христианского смирения.
— Почему не поверить, — упорствовал Бенкендорф, — это очень натурально. Когда любишь жену, то очень натурально поверить ей свои тайны.
— Я не понимаю, какое вы имеете понятие о супружеской любви, генерал, когда полагаете, что можно поверить жене такую тайну, которой познание может подвергнуть ее опасности…
Сергею Петровичу стало страшно. Чего они добиваются этими расспросами?
— Да что тут удивительного? — продолжал оживленно настаивать генерал. — Все крайне просто — ежели даже вы и доверились княгине не во всем, то вам непременно нужно было поведать ей хотя бы о чем–то, — на этих словах он преспокойно достал новенькую золотую табакерку с портретом Николая Павловича (очередной знак отличия, очевидно) и стал старательно, с расстановкой набивать свой толстый нос табаком. Сергея Петровича стало подташнивать, он с трудом сдерживал раздражение.
— Ежели бы я когда–нибудь и доверил жене моей тайну, знание каковой хотя бы и косвенно могло скомпроментировать ее, я бы счел себя подлецом!
Настроение Трубецкого передалось остальным членам комиссии — во всяком случае, на лицах Левашова и Великого князя Михаила читалась очевидная неловкость; первым на выручку Сергею Петровичу пришел генерал Левашов.
— Послушайте, Бенкендорф, есть большая вероятность того, что князь не пожелал ничего говорить жене своей, и что она так ничего и не узнала, — негромко сказал он, слегка отклонившись назад в своем кресле.
Бенкендорф вместо ответа развернул большой белый носовой платок, чихнул, обстоятельно утерся и снова с улыбкой обратился к Трубецкому.
— И все–таки, князь, вы не вполне меня убедили…
— Бенкендорф, голубчик, я считаю, что ответ князя Трубецкого на ваши вопросы был самый исчерпывающий, — слегка покраснев, вмешался Михаил Павлович. Бенкендорф поклонился и замолчал.
Сергей Петрович смотрел на Великого князя с благодарностью. Рыжего в гвардии считали злым дураком. Может быть, он и был дурак, но зла в нем не было совершенно. И это при том, что Сергей Петрович был так виноват перед ним! Ведь об этом Трубецкой именно сегодня и думал, и наткнулся как раз на этот стих из апостола Павла: «Несть бо власть, аще не от Бога, сущия же власти от Бога учинены суть». Это он сегодня несколько перечитывал перед вызовом на допрос и даже заложил место в книге обрывком веревки, чтобы вечером вернуться к нему. Плоха ли власть в России, хороша ли, но она точно исходит от Бога — иначе в чем было бы таинство присяги и помазания? А тогда раздражение на Бенкендорфа, который конечно же искушал его терпение, было бессмысленным и даже греховным!
Бессмысленным и греховным было настроение, с которым он стоял сейчас перед комиссиею, любуясь своим несчастием и своими оковами, и видя себя чуть ли не Христом перед судом Пилата. Но кто из них — он или мучители его — лучше ведал, что творил? К тому же Сергей Петрович понимал всю глубину своего падения. Сейчас, когда одна лишь тонкая нить отделяла его от смерти, он был еще весь погружен в суету мира, который, и может быть, очень скоро, предстояло ему покинуть для суда иного, высшего. Ему было по–прежнему важно, как он держится, каким тоном говорит, с достаточным ли негодованием отвечает Бенкендорфу. Трубецкого остро раздражала манера генерала говорить, его вульгарный французский выговор, его табакерка, его желтые от табаку пальцы с обломанными ногтями. Он смотрел на Бенкендорфа, судил его, и все это вместо того, чтобы раскаяться и искупить свой грех! Да, но невозможно же было каяться перед следственной комиссией!
Следователи уже забыли о нем, шурша бумагами и тихо совещаясь, уже солдат подталкивал его в спину, когда Сергей Петрович вдруг очнулся.
— Господа… Ваше императорское высочество, — взмолился он, — мне обещали священника! Я хотел причаститься!
Шуршание прекратилось. Генералы, оставив свои занятия, внимательно и сочувственно, включая Бенкендорфа, глядели на него.
— Я думаю, что в этом у вас не будет препятствий, князь, — тихо произнес Михаил Павлович, — вы имеете право исполнить долг христианина, когда считаете нужным.
— Благодарю вас, — еле слышно ответил Сергей Петрович. Ему было совсем худо — и точно — в камере у него снова открылось кровохарканье. Двое суток лежал он на кровати с мешком льду на груди, по указанию медика, и не переставая думал о том, что он будет говорить на исповеди. Он никак не мог собрать мыслей. Одно утешало его — он понимал, что страдания как нравственные, так и телесные, уже довольно приготовили его к причастию. Сознательно, как он привык делать это всегда, постом и молитвой готовиться он не мог.
Только через два дня после допроса он смог ответить на письмо Каташи. Каташу в мыслях своих он всегда представлял себе заплаканной и несчастной. Поэтому в письмах он всякий раз извинялся перед нею. Последнее письмо растревожило его совершенно: Каташа писала, что он напрасно просит у ней прощения, поскольку ни в чем перед нею не виноват. Письмо было путаное. Он только сейчас понял, насколько сильно она терзается. Он не знал, как ее утешить, но сейчас наконец понял для себя какие–то вещи. За неимением бумаги для ведения дневника, он записал их в письме. Ему было сейчас совершенно все равно, кто и в каком департаменте будет читать эти строки. Он писал для себя, для Каташи и еще — для Бога.