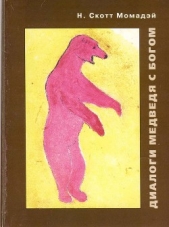Грустный шут
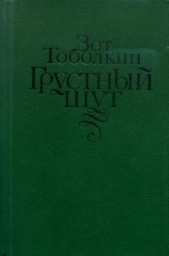
Грустный шут читать книгу онлайн
В новом романе тюменский писатель Зот Тоболкин знакомит нас с Сибирью начала XVIII столетия, когда была она не столько кладовой несметных природных богатств, сколько местом ссылок для опальных граждан России. Главные герои романа — люди отважные в помыслах своих и стойкие к превратностям судьбы в поисках свободы и счастья.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Эх, — грохнул кулачищем Антипа, — пади и моя голова! Ведь я за Феоктисьей пришел, — он с треском рванул себя за кудри, словно приводил в чувство, откинулся и с обезоруживающей искренностью признался: — Без ума я от твоей соловушки.
— За Феоктисьей? За мужней женой? — изумившись дерзости купца, не поверил Пикан. Кулак его лег рядом с Библией, чуть поменьше ее.
Антипа без страха, но с почтением покосился на этот кулак, на виду у всего Сургута уронивший его, когда-то гордого и непобедимого. Вот и Феша уронила. До нее никто не отказывал Антипе в любви. Не добром, так силой, не силой, так деньгами добивался своего. Много, ох много бегает по тайге ребятишек, кудрявых, голубоглазых, родившихся от зырянок, от вогулок, от русских и от татарок… Не знают они отца и, наверно, никогда не узнают. И женщины те случайные забыты. А без Феши не жить!
«Уж выроню все из себя, — решил смело. — Пущай знает Пикан, откуда беды ждать!»
— Уступи! — продолжал Антипа. Опять купеческая жилка взыграла. — Цену великую дам!
— Во сколь же ты меня оценил? — Из горницы, успев переодеться, в серебре и черном шелку выплыла Феша. Антипа ахнул, закрыл ладонью глаза, точно боялся ослепнуть.
— Да все отдам, все! — сказал не скоро и глухо, дрожащими пальцами шаря пуговицы на вороте. — Дом, богатство, волю свою… Ограду вашу сусалью выстелю! — отпихнув стол от себя, пал на колени, большой и несчастный.
— Сусалью-то маковку на церкви покрой. Брата своего порадуй, — придвигая стол на место, посоветовал Пикан, жалея в душе этого мечущегося, потерявшего разум человека. Все есть у него: богатство, сила, молодость. Нет лебедушки, и — тошно мужику, жизнь не в жизнь. Это понятно. Пикан сам места не находил, когда умерла Потаповна. Так и помер бы в тоске, если б не явилась Феша.
— Покрою, порадую! Ежели требуешь.
— Душа твоя не требует? Дело божье.
— Бог там где-то, там! Тут — богородица! — Антипа ткнулся лицом в пол и коснулся губами плахи, на которой только что стояла Феша. Зардевшись, она отпрянула. Хотела убежать, но прижалась к двери боком, через плечо глядя на поверженного, тянущего к ней руки красавца.
— Подымись теперь. И — ступай. — Выждав какое-то время, Пикан взял гостя за опояску, вытолкнул в сени. Туда же выкинул шубу и шапку соболью.
Феша метнулась в горницу. Тая шаг, тыкалась из угла в угол.
Не видя букв, Пикан молча листал Библию. Из ограды долетали глухие рыданья иссушенного неистовой страстью Антипы.
— Спиря из лесу скоро вернется, — сказал Пикан, когда жалобы купца стихли. — Велю быть ему при тебе.
Антипа, пьяно качаясь, брел по улице. Лицом к лицу столкнулся с братом:
— Савва! Саввушка! На́ те на церкву! Покроешь золотом! — сорвал с себя шапку, кафтан, расшитый жемчугом, кинул под ноги подарки, заготовленные для Феши. — Меня, сирого, у притвора схоронишь, чтоб люди топтались. Гибну я! Ги-ибнууу!
— Опять куролесишь? — спокойно одернул его Савва. Подобрав драгоценности и кафтан, сунул Антипе. — Пошто людям досаждаешь? Добрые, праведные люди!
— Праведные! А я грешник! Окаянный я человек! Огонь внутри пышет! Геенна во мне, братко!
— Пойдем — исповедаю. Легче станет.
— Веди, поп, исповедуй. Но гляди: ежели легче не станет — церкву твою спалю! — пригрозил Антипа. Слеза из голоса выветрилась.
Идя под руку с братом, оглядывался на пикановский дом, пел:
— Полетим, кукушка, во темны леса. Там совьем с тобой тепло гнездышко…
— Дак Спирю-то приставлять? — осторожно спросил Пикан, вслушиваясь в бесконечный ход жены. — «Что-то случилось с ней, — думал. — Со всеми с нами случилось…»
Сердце тревожно замерло и ворохнулось: «Неужто новые предстоят испытания?»
— Не надо, — глухо отозвалась Феша. — Сама отважу.
…Труба молчала. Князь занемог.
Но пушка с Троицкого мыса выстрелила в положенный срок.
Путь долгим был. И даже Митя, лучше других сознававший тяготы земных и водных странствий, с нетерпением ждал, когда он кончится. Лейтенант не терял времени попусту: занимался геодезическими съемками, каждому задавал работу и требовал безоговорочного исполнения.
«Команда не должна распускаться, — твердил он всякий раз. — Нам плыть еще!» Он верил, что поплывет, что откроет для Отечества новые земли, хотя корабля у него не было. Пока же, не тратя времени, учил матросов грамоте на каждом привале, объясняя, как пользоваться подзорной трубой лотом, квадрантом, взятыми с Фишеровой шхуны.
— Всяк должен уметь подменить всякого. Умру или ранят — Егор корабль поведет. А что с Егором случится — братья сменят.
— А я? — спросил Гонька, внимавший каждому Митиному слову.
— Будет и твой черед, юнга! Пока ж содержи в порядке наш судовой журнал. Помогай Даше.
Дел у Дарьи Борисовны было немало: уход за сыном, хлопоты у костров, стирка. Никто из знавших ее прежде не поверил бы, что избалованная, хрупкая княжна способна жить этой непривычной и суровой жизнью. Она жила и не жаловалась. Она заменила Гоньке мать, журила захандрившего Бондаря, почем зря костерила мужа, хоть иной раз и не заслуживал этого, но перебранка их веселила. Наедине спрашивала Барму:
— Ты не разгневался, Тима?
— Страх как разгневался! Вот встречу самоедку, которая по-русски не разумеет, — женюсь. Та хоть ругать не по-нашему станет, — отшучивался Барма, получал подзатыльник и целовал ударившую его руку. Рядом в корзинке сладко посапывал сын.
— Не люба, что ли? — ревниво допытывалась Даша. Вскипали сомнения: «Ну, как бросит меня? Что тогда? Часу не проживу без него. Господи, господи, не допусти!»
— Хоть и княжна ты, а дурочка, — прерывая исступленное ее бормотанье, шептал на ушко Барма.
— Повтори! Повтори! — чувствуя, как дыхание его сдувает прядь над ухом, просила Даша.
— Дурочка, — ласково капал его голос, переворачивал душу. — Свет мой!
— Колдун! — шлепала его по губам Даша. — Ничего от тебя не утаишь.
— А ты не таи! — притворно хмурился Барма, целовал ее и перекатывался к мужикам, которые вечно о чем-то спорили. … — Человек возомнил себя царем, — говорил он, сразу врезаясь в спор. Голос был еще хриповат, не остыл от потаенной страсти. Даша думала: «Для меня говорит!» — Не царь он, — без шутовства, как никогда серьезно, говорил Барма. — Царей в природе нет. Вот в тундре кто сильней всех, Ошкуй? А он разве властен над птицей? Кто в небе орла сильней? А мошкара садится ему на крыло. Всяк сам по себе живет, как ему назначено.
— А человек над всеми, — убежденно сказал Бондарь. — Над зверем, над птицей. Всем господин.
— А ты и́х вон о том спроси, — желчно усмехнулся Барма, указав на Гусельниковых. — Или Гоньку. Что скажешь, господин мой Гонька?
— Я, Тима, — залепетал мальчик, напуганный этим странным и непривычным обращением, — не господин.
— А кто ж ты? Птица или рыба?
— Человек я… Гонька.
— То-то, — хмыкнул Барма. — Человек, и не боле. А госпожа всему — правда! И человек ей подчиняться должен, а не царю и не князю.
— Кто ж державой тогда править станет? — задумался Егор. — Судном и то капитан правит. А тут держава.
— Один ромей знакомый хотел город построить, которым все будут править, — сказал Барма, вспомнив Пинелли.
— И что, — встрепенулся Бондарь, — построил?
— Вряд ли. Да и зачем он нужен? Когда все начнут править, работать некому будет.
«А как муравьи живут? — запишет об этом разговоре Гонька. — У них никто не правит. И все трудятся».
В голове его никак не укладывалось, что насекомые в чем-то превосходят людей. И потому он вымарал эти строчки.
Ветер плакал. И человек в нарте плакал, сжавшись в комок. Он ехал, чтобы умереть в пути. Но смерть была легка на ногу и опережала его. За ней медленно бежали собаки. «Стой! — кричал человек смерти. — Ну стой же! Если уж ты взяла жену и детей, возьми и меня. Зачем я жизни?»
Собаки изнемогали, а человек гнал их, и они плелись, свесив красные листья языков. Языки пылали, хватали на бегу снег, пасти закуржавели льдинками. Льдинки погремливали, как бисер, и в такт им мотались собачьи хвосты. И высоко в небе пылал язык, и виден был глаз огромный, словно и там бежал пес в упряжке, а в нарте сидел другой человек, бог. Бог плакал, как Ядне, потому что он не может не плакать, когда плачет на земле человек. А человека обидел другой человек, Янгурейка. Налетел ночью со своими охотниками, избил пастухов, угнал оленей, оставив Ядне худую собачью упряжку. Много дней убивался Ядне, но дети хотели есть. Жена его, теперь единственная на все стойбище женщина, хромая, помятая на охоте медведем, визгливо кричала: