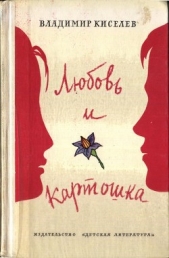О, юность моя!
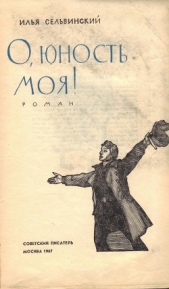
О, юность моя! читать книгу онлайн
"O, юность моя!" — роман выдающегося поэта Ильи Сельвинского, носящий автобиографические черты. Речь в нём идёт о событиях относящихся к первым годам советской власти на юге России. Центральный герой романа — человек со сложным душевным миром, ещё не вполне чётко представляющий себе своё будущее и будущее своей страны. Его характер только ещё складывается, формируется, причём в обстановке далеко не лёгкой и не простой. Но он не один. Его окружает молодёжь тех лет — молодёжь маленького южного городка, бурлящего противоречиями, характерными для тех исторически сложных дней.
Роман И. Сельвинского эмоционален, написан рукой настоящего художника, язык его поэтичен и ярок.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Глядя на мокрые деревья сада, Елисей вдруг почувствовал на щеке как бы легкое ползанье муравья. Он огляделся, неподалеку, на скамье третьего ряда, сидел Еремушкин — с ним Леська учился в городском училище — и смотрел на него в упор. Еремушкин не имел среднего образования и, значит, не мог быть студентом. Странно...
При выходе из аудитории Еремушкин подошел к Елисею и взял его об руку:
— Есть разговор, Бредихин. Пойдем в Семинарский сад.
— Пошли.
— Авелла! — сказал Еремушкин. — Была с тобою связь через Витю Груббе, потом через Голомба, а теперь будет через Еремушкииа.
— Какая связь? О чем ты говоришь?
— Задавай любые вопросы. Увидишь, что я в курсе дела.
— Почему большевики, уходя из Евпатории, не взяли меня с собой?
— А зачем? Сила твоя, Бредихин, в твоем знакомстве с евпаторийскими тузами. Поэтому ты нам и нужен. А если тебя увезти, кто будет работать? Чатыр-Даг?
— Но они могли по крайней мере сообщить мне об этом перед уходом.
— Уход был слишком поспешным. А что касается того, чтобы «сообщить», то не задавай глупых вопросов.
— Ага. Не доверяют?
— Если б не доверяли, я бы... Ты думаешь, я пришел попа этого слушать? К тебе пришел.
— Когда меня примут в партию?
— Когда посчитают нужным, тогда и примут.
— Все-таки не доверяют?
— Балда ты, Бредихин! Ты вот что пойми: тебя нет ни в каких наших списках как раз потому, что ты беспартийный. Это тебе выгодно. А был бы в списках, лежал бы уже рядом с Витей и Сенькой.
Что значит «лежал бы рядом»?
— А ты разве не знаешь?
— Нет.
— Витя, Сенька и все его сестры арестованы и расстреляны.
— Расстреляны? Как? Где?
— Еще в прошлом году. Повезли их в теплушке на полустанок Айсул, под Семью Колодезями, открыли дверь и всех перекосили из пулемета.
У Леськи перехватило в горле. Он сделал несколько глубоких вдохов и сдержался.
— Еще вопросы есть?
Леська помолчал. Потом спросил глухим голосом:
— Что я должен делать?
— Вот это разговор другой. Пока что ты должен разыскать своего дружка Володю Шокарева. Он сейчас в Симферополе. Шляется тут, щеголяет в студенческой фуражке, а сам нигде не учится.
— Ну, допустим, разыщу.
— Пока все. Разыщи и продолжай дружбу. А что дальше сообщу в свое время. Кстати, Шокарев часто бывает в кафе «Чашка чая». Деньги у тебя есть?
— Есть.
Еремушкин ушел. А Леська долго еще сидел на скамье и видел перед собой Виктора Груббе в матросской фуражке с надписью «Судак», Сеньку Немича с его неизменной цацкой, а из сестер почему-то среднюю, Варвару. Убиты... Все убиты... Из пулемета... Леську охватил пафос мщения. Найти Шокарева! Как можно скорее найти Шокарева!
От Леонидовых керенок осталось совсем немного. Леська купил житного хлеба и пошел домой. Дома никого не было. Ключ, как всегда, висел на гвоздике в прихожей. Умирая от голода, Елисей вошел в комнату Кавуна и стал шарить, нет ли чего съестного. Беспрозванного он жалел и не мог позволить себе хоть чем-нибудь попользоваться у старика.
На окне, за ставнем, в чистой белой тряпочке жил-был кусок свиного сала. Леська развернул тряпочку и понюхал. Если б сало имело запах свечи, он оставил бы его в покое. Но пахло оно рождеством и елкой. К тому же было настолько свежим, что в глубине просвечивало розоватым. Леська сбегал за ножом, отрезал ломтик... тончайший... как пергаментный лист из сказки о Шехерезаде... Аккуратно завернул сало в тряпочку и положил на место. Потом пошел на кухню, разыскал чесноку, натер им свиную корочку и, отхватив большой кусок хлеба, откусил малюсенький кусочек сала... Что такое счастье?
Леська углубился в книгу и не заметил, как съел и сало, и хлеб. Он читал первый том «Капитала» и приходил в детский восторг прежде всего от Марксова юмора в сносках.
«Явное влияние Гейне, — думал он. — Тот же полемический блеск, то же едкое остроумие... Так смеются боги».
Сначала Леська вообще весь том прочитал в сносках. Но юмор юмором, а за последний месяц Бредихин ушел уже довольно далеко и теперь постигал одну из самых важных глав — главу о прибавочной стоимости.
Он услышал за дверью возбужденные голоса.
— Нет, ты обязан это напечатать, будь ты проклят!
— Не могу, Васильич. Ну, понимаешь: не мо-гу!
— Можешь! Должен! Обязан!
Леська выглянул в коридор.
— А! Елисей! Вы дома? Пожалуйте к нам. Знакомьтесь.
— Трецек.
— Бредихин.
Трецек, маленький человечек, жилистый, горбатенький, с волосами, крашенными до фиолетовой радуги, смотрел на Леську печальными глазами.
— Елисей! Вы только подумайте: этот мерзавец отказывается напечатать в своей грязной газетенке замечательное мое стихотворение.
Несмотря на весь свой гнев, Аким Васильевич бранился так беззлобно, что на него нельзя было сердиться.
— Называется
— Прекрасное стихотворение! — сказал Леська.
— Вот видишь, обезьяна, видишь?
— Господин студент! Если я это напечатаю, меня вызовут к полковнику из контрразведки и будут орать на меня и топать ногами.
— Пусть орут, пусть топают! — упрямо восклицал поэт.
— Еще и оштрафуют!
— И правильно! Стихотворение стоит того.
— Простите! — вмешался Елисей. — А что в этой вещице такого, что может вызвать гнев контрразведочного полковника?
— Как что? А «подлецы», «дураки» и «трусы»? Ведь белогвардейщина все переводит на себя.
— Врешь, негодяй! Полковник даже не обратит внимания на эти строчки.
— А доносы?
— Все равно. Он достаточно умен, чтобы сделать вид, будто ничего не произошло. Да и на самом деле: я ведь действительно не думаю, что мое стихотворение относится ко всем белогвардейцам. Разве Пуришкевич — дурак? Разве Булгаков подлец? А Деникин — трус? Ты! Ты — трус, подлец и дурак. И к тому же зол, как скорпион. Вы знаете, Елисей, я написал на него эпиграмму:
О, как я вас ненавижу,горбуны духа! Это вы затыкаете нам рот кляпом. Это вы — душители культуры. Именно вы, вы, а не полковник. Тот боится революции — и только, а вас пугает даже самая маленькая вспышка таланта.
— Сумасшедший, — спокойно сказал Трецек. — Он не знает этих людей. Сейчас они могут сделать вид, будто не заметили его стихов. Но потом придерутся к какой-нибудь запятой и сдерут с меня шкуру.
— Ну и что?!
— Он еще спрашивает. Сумасшедший!
— Я требую от тебя подвига! Слышишь, Трецек ты этакий. Подвига! В твоих руках печать. Ты могучий человек. Ты можешь бороться.
— Я? Бороться?
— Неужели ты издаешь газету только для того, чтобы ежедневно жрать в харчевне котлеты де-воляй? Ничтожество ты после этого. Тьфу!