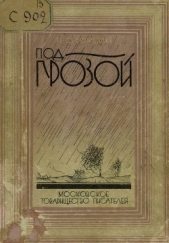Перед грозой
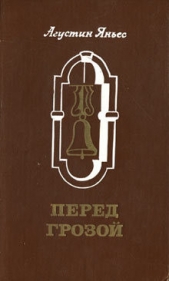
Перед грозой читать книгу онлайн
Роман прогрессивного мексиканского писателя Агустина Яньеса «Перед грозой» рассказывает о предреволюционных событиях (мексиканская революция 1910–1917 гг.) в глухом захолустье, где господствовали церковники, действовавшие против интересов народа.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
3
В последние годы необъявленное соперничество возникло между падре Рейесом и падре Исласом, проявлявшими свои личные пристрастия в дни празднеств пречистой богородицы и Гуадалупской девы. Еще в прошлом году среди прихожан возникли хоть и не слишком большие, но разногласия, вызванные желанием обоих священников придать наибольший блеск каждому из празднеств, оспаривая успех друг у друга: «Лучший оркестр был все-таки восьмого числа». — «Ну что вы, вовсе нет», — «Как можно сравнивать проповедь о Непорочной с проповедью о Гуадалупской?» — «Да смогут ли Дщери Марии устроить так, как сделал падре Рейес?» — «Алтарь ваш по блистал». — «Церковь на сей раз была украшена на редкость безвкусно». — «Как жалко выглядели цветы и воск…»
После празднеств страстной недели празднование восьмого декабря, бесспорно, было наиболее блистательным и значительным. С тех пор как сюда прибыл падре Рейес, он особо заботился о том, чтобы приумножить почитание Гуадалупской девы, придавая особую торжественность ее празднику — 12 декабря, с каждым разом более шумному и «языческому», как комментировали сторонники традиции, поскольку к этому дню украшались улицы, печатались программы празднеств для распространения их среди приглашенных, готовились шествия с музыкой, ракетами, парадом детишек, одетых ангелами, миссионерами, индейцами и конкистадорами. В прошлом году зажигали бенгальские огни, а нынче предполагалось устроить большое шествие с остановками перед четырьмя алтарями под открытым небом, на которых будут представлены четыре «живые картины».
Празднества пречистой начинаются тридцатого ноября, и колокольный перезвон в ее честь едва не сливается с последними скорбными ударами колокола, которыми завершается месяц поминовения мертвых. Тридцатое ноября — начало «Новены» [108], знаменитой «Новены», чьи песнопений формировали литературные вкусы нескольких поколений жителей селения, хотя дьявол также пытался весьма коварно использовать эти дни, чтобы пробудить чувственность в пылких и слабых духом натурах. Луис Гонсага Перес помнил ее наизусть. Микаэла с наслаждением ее слушала. И, между прочим, немало любовных писем, тайно перелетавших от отправителей к адресатам, впитывало живительные соки из Песни Песней.
Задумав превзойти хор падре Рейеса, чья помощь была отклонена, Дщери Марии постарались уговорить падре Исласа, чтобы он позволил им пригласить музыкантов из Гуадалахары, не только оркестр, но и певцов, не говоря уже о канонике Сильве, знаменитом проповеднике.
Однако сеньор приходский священник и падре Ислас поставили перед артистами, этими возмутителями спокойствия, условия, согласно которым те должны были прибыть утром седьмого, а уехать сразу по окончании мессы, восьмого, причем оговаривалось, что угощать их не будут и разместят не в частных домах, как они предполагали, а в Доме покаяния.
— Любопытно, что будет теперь делать падре Рейес, чтобы не плестись в хвосте? — спрашивали в селении.
— Что предпримем, — спрашивали наиболее ретивые у падре Рейеса, — чтобы не остаться позади? Если нужны деньги, они найдутся, — добавляли сторонники празднеств в честь Гуадалупской божьей матери.
— Посмотрим. Не спешите заранее, — отвечал дон Абундио по своему обыкновению флегматично.
4
Навестив свою подругу Мерседес, которая была потрясена приездом в первых числах декабря Хулиана с молодой женой, Марта подумала, что ей удалось уяснить себе причину своей собственной печали: ее пугало одиночество старой девы, хотя она делала вид, что смирилась со своей участью. Никогда ранее, как ей казалось, не придавала она значения браку, помолвкам, необходимости отказаться от всего того, что давало ей возможность чувствовать себя свободной.
— У них будут дети, а они могли бы быть моими! — все чаще слышалась жалоба Мерседес, еще восстающей против выпавшей на ее долю судьбы, которую она сама считала чем-то непоправимым.
И эта жалоба искрой разожгла дремавшее в глубинах души желание Марты. В ее памяти молниеносно, но настойчиво, до того настойчиво, что казалось, вот-вот запылает мозг, всплывали, по-новому, уже тысячи и тысячи образов — из повседневной жизни, из лона забвения, чьи полустертые отпечатки ослепляли ее невиданной отчетливостью. Иметь сына! Желать сына! Не смиряться с одиночеством старой девы, которое обрекало ее на то, чтобы любоваться чужими детьми, которых она учила катехизису, заботиться о Педрито, мечтать об основании сиротского приюта, палаты для малышей в больнице, школы для детей бедняков. Нет, ее печаль не была ни мятежом, ни завистью: разве не преследовала ее печаль, — страх смерти или страх греха, — уже начиная с апреля, с той поры, когда Педрито остался сиротой? Разве не избегала она раздумий о таинстве материнства при виде пресвятой девы с младенцем на руках? А не было ли это тем новым чувством, противным чувству одиночества, сходным с материнской нежностью и связанным с надеждой на то, что ее сестра выйдет замуж и будет иметь детей? С надеждой, возлагаемой на Габриэля, и с разочарованием, вызванным его поступком? И не было ли у нее своего интереса в том, чтобы сестра ответила на ухаживания молодого врача из Теокальтиче? И словно все эти тысячи и тысячи людей кричали ей ужасными голосами: «Старая дева, старая дева навсегда!» Эти голоса и призывают ее к мятежу, но вызывают на глазах слезы. Жалоба Мерседес вынудила ее вспомнить и другое: ощущение покорности, которое охватывало ее при виде Дамиана Лимона — еще до его преступления; ее жалость к Дамиану — после случившегося; ее сердобольные мысли об убийце, о его судьбе; в селении многие уже начинают его забывать, но для нее он продолжает оставаться настоящим мужчиной. Правда, поговорив с Мерседес, Марта пришла в ужас от своих чувств к Дамиану и с запозданием осудила себя за то, что столько раз невольно задерживала свой взгляд на Дамиане и на других мужчинах, чьей женой, смутно представлялось ей, она могла бы быть и от кого у нее могли бы быть дети. И теперь — перед источавшим бледный свет горем Мерседес — все это приобретало особый смысл, особое значение. Мерседес горячо протестует против приговора, осуждающего ее на постоянное одиночество: «Я не смогу смириться с этим — никогда, никогда! Ни тогда, когда все в селении привыкнут встречать Хулиана с женой, ни когда его жена станет здороваться со мной, как с любой другой соседкой, подумав, что мы можем стать подругами. Как могут другие нести такой крест, таить в себе такие муки? Как свыкнуться с мыслью, что всегда будешь жить рядом с ними, встречая их вместе в любой час, в церкви, на улице; будешь видеть, как они счастливы, что имеют детей, что дети растут и все уже забыли, что есть на свете страждущая душа, сгорающая от зависти, а быть может, и от непогасшей любви! И с каждым годом, все больше старея, все более одинокая, слабая здоровьем, без всяких надежд! Ужасно! Почему падре не видит моих страданий, почему ничего сердце ему не подскажет, почему он меня не понимает — и не позволит мне уехать отсюда, хотя бы на несколько дней. А как я ему об этом скажу? Трудно сказать даже матери. Они ответят, что все это глупости, что все уладится. А могут наговорить чего-нибудь и похуже. Кончится тем, что возненавидишь их так же, как ненавидишь сейчас весь мир, когда готова выцарапать глаза всем этим знакомым и родственникам, навещающим меня и истязающим своими взглядами и намеками. Собачьи души!» Жалобы Мерседес угнетают Марту почти до потери сознания, и впервые перед ней предстает призрак Микаэлы, который вопрошает ее: «Ты помнишь обо мне?»
5
Радость не вечна, печаль по бесконечна! Музыканты прибыли в селение полумертвые от усталости. И сильно запоздали: приехали почти в пять пополудни. Когда слезли с лошадей, не могли стоять на ногах. Почти никто из них раньше не ездил верхом, а тут еще пришлось трястись в седле трое суток по горам да по оврагам. До восьми не успели отдохнуть и во время выступления не раз пускали «петуха», фальшивили почем зря, невпопад вступали, играли спустя рукава. Все едва не зевали. Сановницы из конгрегации Дщерей Марии, приложившие столько усилий, чтобы завлечь музыкантов сюда, и ни о чем ином не говорившие все последние дни, впали в глубокое уныние. Похоже, даже ранчеро спрашивали: «Столько шуму, а для чего?» Еще в дверях можно было заметить, как помирали с хохоту певцы из хора падре Рейеса. Даже тот, кто ничего не смыслил в музыке, понимал, насколько велика была неудача. Правда, на торжественной мессе они играли лучше. Па рассвете музыканты поднялись, разъяренные здешним гостеприимством: отдохнуть им так и не удалось; они пришли к падре Исласу и заявили, что тотчас же уедут: их обманули — холод в Доме покаяния совершенно невыносим, постели еще более невыносимы, а о еде и говорить нечего. Падре Ислас в ответ выбранил их за то, что накануне вечером они играли из рук вон плохо. Раздражение музыкантов не имело границ — пришлось вмешаться падре Рейесу, что еще более унизило падре Исласа. Продолжая бушевать, музыканты, без репетиции, поднялись на хоры и сразу же начали играть, вызвав гнев «сестер» из конгрегации и насмешки остальных прихожан. Даже дети, занимающиеся катехизисом, или оркестрик с какого-нибудь ранчо сыграли бы лучше. Но на этом история не кончилась. Музыканты отказались уехать в тот же день, как было договорено, ссылаясь на то, что им нужно передохнуть; и потребовали предоставить им более подходящий ночлег, а пока расположились прямо на площади, кому как нравилось, быстро завязали знакомства с некоторыми местными жителями, чудодейственным образом раздобыли спиртное и основательно напились, А позднее, как говорят, в сговоре и согласии с политическим начальником (кто знает, быть может, и по его просьбе) они набрались наглости исполнить «ночную серенаду» и под музыку и песни прошли по всему селению, — и вот тут уж они играли и пели божественно!