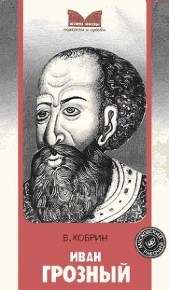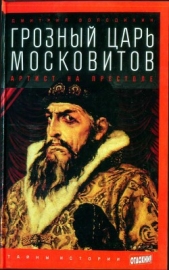Иван Грозный — многоликий тиран?

Иван Грозный — многоликий тиран? читать книгу онлайн
Книга Генриха Эрлиха «Иван Грозный — многоликий тиран?» — литературное расследование, написанное по материалам «новой хронологии» А.Т. Фоменко. Описываемое время — самое загадочное, самое интригующее в русской истории, время правления царя Ивана Грозного и его наследников, завершившееся великой Смутой. Вокруг Ивана Грозного по сей день не утихают споры, крутые повороты его судьбы и неожиданность поступков оставляют широкое поле для трактовок — от святого до великого грешника, от просвещенного европейского монарха до кровожадного азиатского деспота, от героя до сумасшедшего маньяка. Да и был ли вообще такой человек? Или стараниями романовских историков этот мифический персонаж «склеен» из нескольких реально правивших на Руси царей?
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Это же совсем другое дело! Я вышел от Ивана если не успокоенный, то окрыленный, любовью его окрыленный.
На следующее утро еще затемно стали стекаться в Кремль сани тяжелые, несметное количество саней. Подъезжали они десятками к дворцу царскому, и в них сносили и святыни московские, и казну царскую, и утварь дворцовую, и рухлядь меховую, и припасы разные. А как нагружали сани и груз крепко увязывали, так сани отъезжали к воротам Боровицким, а на их место следующие становились.
А как рассвело, в храм Успения стал собираться народ московский: духовенство во главе с митрополитом Афанасием, все бояре и князья — я даже не ожидал, что их столько в Москве обреталось, отдельно двор царский. Но все было благочинно, против прискорбного обыкновения последних месяцев никаких ссор и перебранок между земскими и дворовыми не происходило. Все ждали царя Ивана. Он появился в походном кафтане, украшенном неброской и неширокой, в два пальца, полосой золотого шитья на вороте, обшлагах и груди, на руках было всего четыре перстня с невеликими камнями, да и те были вывернуты внутрь ладони. На фоне бояр, принарядившихся, как на праздник престольный, царь выглядел смиренным странником.
Иван повелел митрополиту служить обедню и сам молился с усердием. Потом подошел под благословение к Афанасию, просветленный милостиво кивнул боярам земским. Некоторые из них подошли к Ивану, приложились почтительно к его руке, просили простить их и не держать на них зла. Все было так благостно, как давно уже не было, на какое-то мгновение у меня даже мелькнула мысль, что, быть может, все и образуется, что с этого дня начнет восстанавливаться мир в державе Русской. Но Иван уже прощался с народом своим, вот он сел в сани, туда же впрыгнула Мария Черкасская, закутанная так, что только глазищи сверкали, в следующих санях расселись все Захарьины, немногие бояре, ко двору приписанные, и прочий люд дворовый. Откуда-то вынырнуло несколько сотен хорошо вооруженных всадников на одинаковых гнедых жеребцах. Одеты они были в необычные кунтуши черного цвета, в черные же шаровары и сапоги. Только одно украшение было на их наряде странном — вышитые мелким жемчугом песьи головы, старинный знак охраны великокняжеской. Да сбоку у каждого висел крепко увязанный пучок розог, как бы ликторских, издали на метелки похожих. Так впервые в новом одеянии явилась перед глазами изумленного народа московского новая дружина царская.
Иван махнул рукой, и поезд царский медленно двинулся к воротам Кремля. Долго стоял народ московский, провожая глазами своего царя, уезжавшего в неизвестность. А как исчезли в предвечерней мути последние сани, так случилось знамение грозное — посреди зимы заплакало небо и пролился дождь на землю, толстым слоем снега покрытую. И стало тепло, как весной, и зажурчали ручьи, и замешалась такая грязь, что никто не мог ни в Москву пробиться, ни из нее выбраться. Поезд царский сгинул без вести.
От распутицы великой жизнь в Москве замерла, а тут еще пост рождественский последнее прибежище мятущейся русской души накрепко запер, так что ничего не оставалось боярам, как сидеть да судачить о таинственном путешествии государя. В таких разговорах долгих, никакими вестями не подкрепляемых, даже последняя надежда умирает, это я по себе знаю. Вот и бояре, начав с радостного возбуждения, с победных криков, впали под конец в уныние. Нет, о поражении никто не говорил, но многие уже сомневались, а была ли битва.
Так прошло больше трех недель, и вот после Рождества пробился из Лавры инок с посланием к митрополиту, что царь находится в Александровой слободе. Бояре сразу приободрились, после долгой неизвестности любая весть принимается за благую. Я-то обо всем уже знал и не только со слов Ивана перед его отъездом. Ко мне за последние дни два гонца из Слободы было, и я их после отдыха короткого назад отсылал с моими грамотами. А пока они у меня на дворе отсыпались, мои холопы уже неслись в Слободу с особыми письмами и с наказами строгими, как эти письма передать, чтобы они только в Ивановы руки попали, эти детали мы с ним еще в Москве обговорили. И посылал я такие письма каждый день, описывая в них до мельчайших подробностей все, что я успел заметить и разведать. Выводов же никаких не делал, потому что, не ведая планов двора, боялся раздуть несущественное и притушить важное.
Такая наша переписка с Иваном могла продолжаться еще очень долго — холопами меня Бог не обидел, но в самом начале января Иван прислал митрополиту грамоту, после которой всякие слова теряли силу, — дела завертелись!
На оглашение той грамоты собралось народу под тысячу: все святители, в Москве пребывавшие, все бояре и князья, дети боярские и дьяки. И правильно собрались — им всем та грамота была адресована. Подробнейше в ней были исчислены все измены и убытки, которые они державе нашей за последние тридцать лет творили. Как казну расхищали, как вотчины государевы на себя переписывали, как земли, им в наместничество пожалованные, разоряли, как от службы царской увиливали, как потворствовали всем — и хану крымскому, и ливонцам, и литовцам, и королю польскому, только собственному царю, Богом над ними поставленному, во всем препоны чинили. Досталось и митрополиту со святыми отцами за то, что препятствуют правосудию царскому, за то, что вступаются за виновных бояр и дьяков, на которых обращается справедливый гнев царский, и не только вступаются, но и покрывают их дела недостойные, а царю выговаривают грубо, как мальчишке неразумному. Слушал я этот перечень длинный и в каждой своей букве правдивый, и возмущение вскипало в сердце моем, хотя лучше других знал я все те обиды и несправедливости, сам же и изложил их в ответе Курбскому, разве что немного из последних месяцев добавилось. Я бы на месте всех этих своевольников окаянных сгорел бы, наверно, от стыда, слушая такое, а им хоть бы что, как с гуся вода, еще и митрополита поторапливают, дескать, нечего воду в ступе толочь, болтовню пустую можно и опустить, пусть сразу концовку зачитывает. А митрополит и так до нее уже добрался. «Не хотя терпеть измен ваших, — писал Иван, — мы от жалости сердца оставили государство и поехали куда Бог укажет путь. А на вас кладем опалу нашу».
Что тут началось! От слов об опале бояре все в радость неописуемую пришли. Тут они все правильно поняли. Когда опала царская с силой совмещается — тут головам боярским с плахи катиться, а опала царская без силы — это отречение.
Пятьдесят лет с того дня минуло, а я все никак успокоиться не могу. Как слышу это слово богомерзкое и рода нашего недостойное, так сразу в волнение прихожу. Вы уж меня извините, мне перерыв нужен.
Собрание это за многолюдством его происходило на площади перед храмом Успения. А тем временем за стенами Кремля, на Троицкой площади, шло другое собрание, еще более многолюдное, и там тоже выкрикивали грамоту царя Ивана, но совсем другую. Была она обращена ко всем простым людям московским, и к гостям, и к купцам, и, как было сказано, ко всему христианству православному. Были там в конце те же самые слова о том, что в жалости сердца оставил Иван государство и поехал куда Бог укажет, но с добавлением, что на народ он никакого гнева не держит и опалы на него не кладет. И на этой площади была радость великая — от милостивых слов царя, но она быстро сменилась возмущением своеволием боярским и страхом перед грядущей смутой.
Меня там, как вы понимаете, не было, я на первом собрании присутствовал, так что рассказываю это с чужих слов. Когда же в первый раз об этом услышал, то не знал, что и думать. С одной стороны, весь простой московский люд выказал свою любовь к Ивану и верность царской власти, это было хорошо. Подвигло его на эти верноподданнические чувства прямое обращение царя, получалось, что и это правильно. Но многое меня смущало. Чувствовал я, что это захарьинская затея, а от их затей я никогда не ждал ничего хорошего, то есть для державы хорошего и для нашего рода полезного. Я уж говорил как-то, что негоже народ привлекать к решению дел престольных, а ведь именно это и выходило. Донесли мне, что еще до этой грамоты Ивановой, громогласно возвещенной, ходили по Москве какие-то подметные письма против своеволия боярского, а некие люди шептали на торжищах, что умышляют лихие бояре недоброе против надежи-царя, хотят извести его колдовством и зельями потаенными, и что весь народ православный должен встать на его защиту. Как услышал я слова про колдовство, так будто молния мне все осветила, все события давнего московского бунта мне стали совершенно ясны. Так вот чья рука Москву тогда баламутила, вот чьи уста клевету в уши народные нашептывали! Только ведь не вышло ничего тогда у Захарьиных! Получилось дело редчайшее, когда все вовлеченные в него люди в проигрыше оказались. В те дни могло показаться, что с прибытком вышли из него Сильвестр и Алексей Адашев, но, памятуя их конец, понимаешь, что и это одна видимость. Вот и боялся я, как бы новая затея Захарьиных таким же провалом не кончилась, когда все в убытке окажутся: царь Иван и бояре, держава и народ.