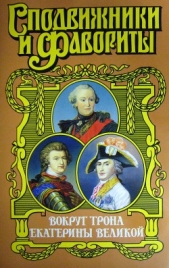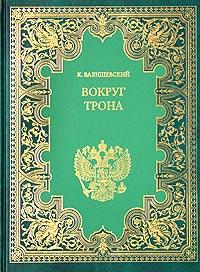Меншиков

Меншиков читать книгу онлайн
В том включен роман об одном из "птенцов гнезда Петрова" ближайшем сподвижнике царя-реформатора - Александре Даниловиче Меншикове.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Каждый из докладывающих, по окончании торжественной речи, вручал Ромодановскому письменный рапорт, и «князь–кесарь», принимая его, «похвалял службу» каждого, особенно же «полковника и всего доблестного войска российского верность и мужество».
После сели обедать.
Петр, Меншиков, Шереметев, Головин за одним столом с «князем–кесарем» на специально устроенном возвышении, под алым балдахином, отороченным горностаем, все прочие — ниже их, за громадными дубовыми столами, поставленными «покоем».
Хоть дни стояли и постные и «тут особо не разойдешься», — извинялся заранее «князь–кесарь», устроитель «почестного пира», — но обед все же удался на славу.
Неумолчно звенели кубки, кружки, чаши, чарки, овкачи и болванцы, наполняемые ставлеными и вареными медами, романеей, фряжскими, рейнскими, венгерскими винами. Без конца следовали перемены: пышные рыбные кулебяки на четыре, шесть и восемь углов, паровые саженные белорыбины, осетры, крупеники и луковники, блины и оладьи, пироги пряженые монастырские и долгие на московское дело чередовались с различными заливными, похлебками, штями, ухой. Икра всех сортов, хворосты, кисели, тестяные шишки, калачи братские и смесные, левашники, перепечи, моченые яблоки, томленая брусника, пряники и орехи не сходили со столов весь обед.
Много чарок и кубков осушили гости. Пили про здоровье государя, Екатерины Алексеевны, новорожденной ее дочери и всего царствующего дома, про здоровье героев–фельдмаршалов, Бориса Петровича Шереметева и Александра Даниловича Меншикова, также про здоровье всех присутствующих генералов и офицеров, про все доблестное российское воинство.
Пир при звуках музыки продолжался до шести часов вечера.
На Царицыном лугу, для народа, выкатили бочки с вином, выставили рыбу, икру, хлебы, калачи, караваи.
Вечером жгли большой фейерверк, представляли сражения под Лесной, Полтавой, Переволочной.
Три дня ликовала Москва, звон и стрельба продолжались неделю.
22
Утром, в час своего обычного пробуждения, когда допевают петухи и ночь мешается с днем, когда свет на дворах, на крышах становится бледно–бел, чуть синея, когда бледнеет, расширяясь, и легкое небо над видимым из окон дворца Белым городом, над всеми слободами, далеко выплеснувшимися за его стены, — однажды в этот час московского рассвета Меншиков встал и уныл и немощен, измученный сном.
Давила какая‑то беспричинная тоска, предчувствие чего‑то тяжелого, мрачного, что вроде как вот–вот должно совершиться. Не помогла и ледяная вода: он как‑то размяк, обессилел, тело ныло, словно всю ночь по нему палками молотили, и все‑то было обузно. Опять заныла грудь, и тело ни с того ни с сего начало покрываться липкой испариной; душил сухой кашель… Нужно было крепко проветриться, да и сладко глотнуть в этот ранний час душистой зимней свежести. Хор–рошо!..
Во дворе из окна видно было, как все чистилось и прибиралось. Все носятся сломя голову, до смерти боятся, видно, не угодить, опасаются, что дотошный чистяк князь сочтет своих начальных дворовых за лежебок–дармоедов, что‑де без него, без хозяина, дом и впрямь сирота, — запустили вконец. Ох как знает князь, и это ведомо всем, про московскую‑то тихую дворовую жизнь! Досыта он на нее насмотрелся: чуть сядет солнышко за слободские гнилые заборы — и закрывают по всем хороминам ставни, и уж весь город на боковую с курами вместе. А с утра до обеда разминаются, потягиваются, со стоном зевают, сны друг другу рассказывают.
В тусклом воздухе диванной мертвенно–бледно горели свечи в тяжелом шандале, терпко пахло холодным табачным дымом и тем сладковато–пыльным, чем обычно пахнут ковры, мягкая мебель, портьеры. А из‑под ледяных узоров, прихотливой кружевной вязью заткавших низ мелких стекол, из невидимой щелочки в раме тонко курился белый парок — тянуло свежестью снега.
Хрустнул Александр Данилович тонкими пальцами, оправил локоны парадного пышнейшего парика, закутавшего плечи и грудь, сбил щелчком пушинку с красного как кровь обшлага, звякнул шпорой. Красив, высок, строен был он по–прежнему: лицом надменен, бел, с очень живыми, блестящими голубыми глазами, в плечах широк и сух, в разговоре властен и резок, в движениях быстр и ловок. Одевался великолепно, и главное, что не переставало поражать иностранцев, — был очень опрятен: качество редкое еще тогда между знатными русскими.
Не оборачиваясь от окна, хлопнул в ладоши. Вбежал казачок.
— Санки, — приказал. Сдернул парик, вытер лоб. — Скажи там — поеду один.
Глубокие январские снега, огромные снежные шапки на избах голубели. Дым из труб поднимался ровными сизо–голубыми витыми столбами. На поворотах крепко счищался подрезами рассыпчатый наст, с атласным скрипом переваливались санки через мягкие новые сугробы на перекрестках дорог. На захолустной московской окраине простор, безлюдье и нищета. Но снежок старательно запорошил все рытвины, колдобины, прикрыл белым, пушистым, искристым одеялом всю серость и гниль.
Легко несет санки бело–курчавый от инея жеребец, выносит за заставу, в лесок. Там все опрятно, тихо, торжественно. Каждая веточка в лебяжьем пуху, и иссиня–зеленая хвойная бахрома тоже осыпана голубоватыми хлопьями. Пухлые комочки прикрыли все развилки сучков, и голые кусты кажутся тоже нарядными, пушистыми, мягкими. Опрятно и чисто, как в горнице перед праздником, когда и полы и лавки выскоблены, вымыты до блеска и кругом все белое: столешники, шитые полотенца, занавески на окнах, заново побеленная печь.
Звонко скрипел снег под полозьями, смачно фыркал рысак, и это путало каких‑то пичужек, стайками срывавшихся с придорожных кустов.
Который уже раз Александр Данилович едет по дороге лесной, вся жизнь в дорогах, и все же каждый раз, так же вот, как и теперь, чувствует он себя в лесу как в сказочном мире. Кажется, что старые могучие ели и молодая буйная поросль сначала пропускают в свою глубь, а потом как бы сходятся за спиной. Оглянешься и видишь за собой, за изгибом дороги, суровый строй сомкнутых лесных великанов. Заденешь куст — он колыхнется и обсыплет целым каскадом мягких снежинок. Встрепенешься, вскинешь голову — луч солнца ослепит, зажмуришься, переведешь взгляд на снег — а он под солнцем как‑то особенно загорится, переливчато–радостно заиграет яркими искрами; живой этот блеск глубоко проникнет в нутро — и там станет так тепло и светло, что хочется смеяться и петь…
— Хор–рошо! — прерывисто вздыхает Данилыч.
Ровно, машисто устилает кровный рысак. Бьет в лицо, обжигает ветерок — чистый, студеный, бодрящий. Дыши! Глотай вволю, сдувай тяжкий осадок липкой усталости, смывай с души копоть и чад, наполняй ее чистым, бодрящим, чем напоен бьющий в лицо лесной свежий воздух.
Быстро, с ветерком скользят легкие санки, хорошо греют связанные Дашенькой пуховые чулки, бобровая шапка, сафьяновые, на беличьем меху рукавицы, кафтан, подбитый черно–бурой лисой, медвежья тяжелая полость.
И как‑то вот в таких случаях особенно чувствовалось, что совсем прошлое отодвинулось, так далеко… «Да полно, — думалось, — жил ли так? Продавал ли на улицах пироги? Закликал ли покупщиков?»
И только вот здесь, на захолустном погосте, куда прикатил он на своем рысаке и сейчас бродит по колено в снегу, разыскивает родительские могилки, остро почувствовалось: как же далеко он шагнул, как серо, бедно, неуютно, неласково было мрачное, страшное бедностью прошлое!.. И стыдно ведь кому сказать. Понял — стыдно!.. Могил отца с матерью он не знал. Сказывал кто‑то когда‑то — и этого не помнил он, — что могилки их возле ограды, против бокового придела старой церквушки Введенья Пресвятой Богородицы, что в селе Семеновском под Москвой. Но где точно? Кто знает!..
Кладбище запущенное, бедное, занесено оно сугробами донекуда, торчат редкие гнилые кресты да верхушки голых ветвистых кустов…
А могилки родителей оказались расчищенными. Видимо, из почтения к нему, князю–фельдмаршалу, снег с них и возле таки разгребали. Хотя, — потер князь переносицу, вспомнил, — ни за уход, ни за поминанья по усопшим духовенству этой церкви от него, князя, дачи до сих пор никакой не бывало.