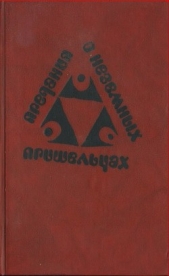Встреча. Повести и эссе

Встреча. Повести и эссе читать книгу онлайн
Современные прозаики ГДР — Анна Зегерс, Франц Фюман, Криста Вольф, Герхард Вольф, Гюнтер де Бройн, Петер Хакс, Эрик Нойч — в последние годы часто обращаются к эпохе «Бури и натиска» и романтизма. Сборник состоит из произведений этих авторов, рассказывающих о Гёте, Гофмане, Клейсте, Фуке и других писателях.
Произведения опубликованы с любезного разрешения правообладателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Один — это Клейст. Это его терзает слишком чуткий слух, это он срывается с места по любому поводу, не ведая причин. Это он прочертил на истерзанной карте Европы нервную, ломаную линию скитаний — с виду бесцельных. Где счастье? Где нас нет.
Женщине, Гюндероде, не до странствий. Узкий круг, теснота обстоятельств. Задумчивость, провидческий дар, неподверженность суете. Служение бессмертному и решимость пожертвовать видимое незримому.
Что они якобы встретились — чаемая легенда. Винкель на Рейне, мы его видели. Подходящее место.
Июнь тысяча восемьсот четвертого.
Чьи слова?
Белые костяшки пальцев. Боль в руках — значит, мои. Так вот, раз уж я вас распознал, приказываю вам отпустить то, во что вы вцепились. Что это. Дерево, гладкое полированное дерево, приятный изгиб. Спинка кресла. Переливчатая обивка, цвет невнятный, серебристо-голубой. Мозаика паркета отсвечивает, я на нем стою. Люди непринужденно разошлись по зале, в расположении групп, как и в расстановке мебели, — небрежный порядок красоты. Тут они мастера, этого у них не отнять. Не то что у нас в Пруссии. Праздничней. Изящней. Вкус, никуда не денешься, вкус. Они называют это культурой, я — роскошью. Так, молчание и вежливость, вежливость и молчание, осталось недолго.
Решено, в этом же месяце я уезжаю, думает Клейст. Возвращаюсь. Но ни слова. Что у меня на душе — это никого не касается, меня самого тем паче. Шутка недурна, я бы гордился, если бы сам ее придумал. При случае надо припугнуть ею бедного надворного советника.
Следую за ним, как ягненок. Противоречие — знак болезни. Не перенесу дорогу? Да полноте! Впрочем, как господин доктор Ведекинд [154] скажет, так тому и быть. Но богом и чертом клянусь, я здоров! Здоров, как тот дурак на скале, Прометей. Тысячу лет живет, а то и больше. Так и тянет за язык спросить доктора — где этот орган, нарастающий сам собой, и не согласится ли он у меня этот орган вынуть, — надо же позлить стервятников. Ладно, с богами шутки плохи, особенно глупые. Неведомое блаженство — быть смертным.
Дурачиться. Здесь, в этом веселом краю, им и невдомек, что такое дурачество. Потому-то мне и не место среди них. «На чай и приятную беседу…» — написано в приглашении. Сзади стена, отлично. Этот свет. По левую руку вереница окон, прекрасный вид. Деревенские дома вдоль дороги, что катится под уклон. Приволье лугов, деревья вразброс. Потом Рейн, ленивец. А дальше остро очерченная полоска отлогих холмов. И выше — безучастная голубизна, небо.
Какая-то барышня подошла к окну и все мне заслонила.
Да, безусловная истинность природы… Слепящий свет. Прикрыв глаза ладонью, Гюндероде отходит за занавеску. «Благостна боль — быть человечества сердцем [155], сладостно биться в твоей груди, природа». Не идет из головы эта строчка. Безумный поэт. Будто я не знаю, что это значит: искать утешения у сумасшедшего. И уже подумываю: не лучше ли было в предчувствии мигрени остаться в пансионе, в зеленоватом полумраке комнаты, на узкой кровати, чем тащиться из Франкфурта в такую даль, по мучительно тряской дороге и теперь пугать людей молчаливой неприступностью. Меня оставили в покое, мою надменность терпеливо сносят — мол, очередная блажь, впрочем, другого и не требуется, все давно привыкли ждать от меня чудачеств. Но у меня раз и навсегда пропала охота потакать и прикидываться. Все, чем дорожат эти люди, теперь чуждо мне. Их цели, законы и требования света — все ложь, пустой и суетный самообман.
Тяжесть в груди не отпускает с самого утра. Опять вспомнился этот сон. Скудная, но приветливая местность. В белом ниспадающем платье она бредет среди других, со всеми вместе — и все же одна, между Савиньи [156] и Беттиной. Внезапно Савиньи вскидывает лук, тетива натянута, он уже целится. Тупой наконечник стрелы. И она видит: на опушке леса — косуля, и слышит свой сдавленный крик — как всегда, слишком поздно, стрела быстрей. Стрела вонзилась в шею, косуля упала. Беттина — она стоит рядом и смотрит во все глаза — первой замечает беду. «Лина!» — вскрикивает она в ужасе. И в тот же миг, даже не подняв руки к горлу, Гюндероде знает: это у нее из шеи торчит стрела. По белому платку Беттины расползается алое пятно, сон, а какие яркие краски. Оказывается, это так просто — истекать кровью. Тут, словно из-под земли, перед ними возникает шалаш, сгорбленный волосатый гном помешивает в горшке отвратительное дымящееся зелье. И чья-то рука — единственная, которая знает, что делать, — без содрогания опускается в месиво и смазывает этим зельем рану. Никакого ожога, только облегчение. Колдовство действует мгновенно. Она чувствует, как рана затягивается, исчезает. Просыпаясь, ощупывает шею — нежная, гладкая кожа. И это все, что оставлено ей на память: блик сна, тень мечты. Она запретила себе плакать и велела забыть и свой сон, и свою печаль.
Теперь она знает: то была рука Савиньи.
Но почему в шею? Такого уговора не было. Она точно помнит место, куда надо приставить кинжал, хирург, которого она в шутку расспрашивала, надавил пальцем чуть пониже груди, вот здесь. С тех пор стоит сосредоточиться, как она сразу ощущает это место и мгновенно успокаивается. Это просто и наверняка, надо только всегда иметь при себе оружие. К самым жутким вещам можно привыкнуть, если думать о них подолгу и часто. Мысли ведь тоже стираются — как монеты, что кочуют из рук в руки, или как образ, который то и дело вызываешь пред внутренним взором. Теперь она не дрогнув способна увидеть свой распростертый труп в любом месте, ну хотя бы вон там, у реки, на песчаной косе под ивами, на которых сейчас покоится ее взгляд. И больше нечего желать — разве только чтобы обнаружил ее человек незнакомый, умеющий владеть собой и быстро забывать. Она знает себя, знает людей и готова к тому, чтобы ее забыли. Красивых жестов она старается избегать, доколе возможно. Ей выпало несчастье быть натурой страстной и гордой, а значит, нераспознанной. И вечно держать себя в узде, что до крови врезалась в мясо. Ничего, жить можно. Страшно не это, страшно забыться, дать себя увлечь и, закусив удила, на всем скаку налететь на преграду, которую все называют просто «действительностью» и которая для нее — в чем ее напоследок еще и упрекнут — останется непостижимой загадкой.
Как это ловко устроено, что наши мысли не бегут по лбу проворной строкой. Иначе всякая встреча с ним, даже пустячная, как вот сегодня, была бы для нее убийственной. А может, мы бы научились быть выше этого и спокойно, без ненависти, созерцать свое отражение в кривых зеркалах чужих мыслей. И не стремились бы разбить зеркала. Но этого — она знает — нам не дано.
Возможно ли, чтобы у женщины такой взгляд?
От этого взгляда Клейсту не по себе. Бранденбургские барышни, его землячки, так смотреть не умеют, и саксонки, сколь ни милы они его сердцу, тоже. Не говоря уж о швейцарках — если, конечно, он верно судит о них по той девушке… И у парижанки, что силилась переспорить природу, не было такого взгляда…
Красива ли она?
Она словно в незримом круге, и переступить боязно. Комплимент не скажешь. От нее исходит достоинство и веет неприступностью, и все это не вяжется с ее юностью, как не вяжутся друг с другом голубизна ее глаз и иссиня-черные волосы. Чем дольше смотришь, тем красивей она кажется, спору нет, — эти движения, эта одухотворенность черт. Но ему ли судить о женской красоте? В молодости насмешник Виланд шутил: женщины сами и только между собой решают, кто из них чего стоит, а приговором мужчин интересуются лишь для вида, чтобы польстить мужскому самомнению. Если это верно, то барышне у окна похоже, отведена роль женщины исключительной, и среди прелестных юных дам что-то не видно охотниц с ней потягаться. Такое не по плечу даже Беттине, сестре знаменитого Клеменса Брентано; тот, к неудовольствию Клейста, едва успев поздороваться, сразу удалился в угол, к столику, и увлек за собой Софи Меро [157], свою молодую жену, и других молодоженов, чету Эзенбеков. Этот маневр, по всему видно, весьма не по вкусу и Беттине; вон она, еще почти ребенок — впрочем, если верить пересудам, ребенок дерзкий и своенравный, — устроилась на софе вместе с обеими барышнями Сервьер, однако частые взгляды в сторону окна ее выдают: она хочет быть подле подруги, но не отваживается нарушить отрешенность ее одиночества.