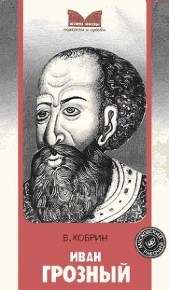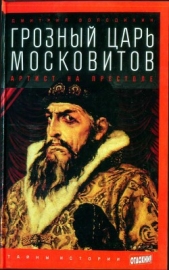Иван Грозный — многоликий тиран?

Иван Грозный — многоликий тиран? читать книгу онлайн
Книга Генриха Эрлиха «Иван Грозный — многоликий тиран?» — литературное расследование, написанное по материалам «новой хронологии» А.Т. Фоменко. Описываемое время — самое загадочное, самое интригующее в русской истории, время правления царя Ивана Грозного и его наследников, завершившееся великой Смутой. Вокруг Ивана Грозного по сей день не утихают споры, крутые повороты его судьбы и неожиданность поступков оставляют широкое поле для трактовок — от святого до великого грешника, от просвещенного европейского монарха до кровожадного азиатского деспота, от героя до сумасшедшего маньяка. Да и был ли вообще такой человек? Или стараниями романовских историков этот мифический персонаж «склеен» из нескольких реально правивших на Руси царей?
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Возлюбил же я Ивана за сиротство его и за страдания, им в детские годы невинные испытанные. Как и я, не знал он в жизни своей ни отца, ни матери. В колыбели младенческой увезли его Захарьины в свои вотчины дальние и там на несколько лет скрыли от глаз людских. Зачем забрали его с собой Данила и Никита Романовичи во время отъезда своего после суда памятного, мне неведомо, вероятно, для козней будущих. Но никто им в этом не препятствовал, младший брат государя никого в державе нашей не интересовал, это я вам уже не один раз разъяснял. Только царица Анастасия могла что-либо возразить, но ее тогда по причинам разным никто не слушал, даже и братья ее родные.
Так и вырос Иван в углу медвежьем без ласки материнской и наставлений отеческих. Окружала его родня захарьинская, дальняя, не знающая правил жизни нравственной и благочестивой. Снедала их жажда власти безрассудная и грызла обида за то, что их от той власти отставили. Проводили они месяцы и годы своего изгнания в мечтах о мести, о том, как покарают они бояр московских, каждого по отдельности и всех вместе, какую казнь каждому назначат и какое имущество отберут. Эти разговоры слышал Иван с первых своих лет вместо сказок, его возрасту приличествующих.
Был у него только один друг, вместе с ним росший, Федька Романов, которого он одного любил и почитал как брата своего старшего. В сущности, он и был его братом, двоюродным, по матери. Федор был почти четырьмя годами старше Ивана, и младший тянулся за старшим во всем. В детстве это даже хорошо, так младший взрослеет быстрее, силы и ума набирается. В годы же отроческие это может быть хорошо только тогда, когда старший являет собой пример благочестия и поведения достойного, как было у нас с братом. Но Федька! Рано распробовавший вино и развязавший узел девства, он и Ивана приобщил к этому в такие годы, когда этим не то что заниматься, но даже знать непозволительно. Происходило все это втайне от меня, а когда открылось, то я ничего уже не мог исправить.
Воспитанием и образованием Ивана, вплоть до его встречи со мной, никто не занимался. Внедрили в него единственную мысль, что будет он когда-нибудь царствовать на Руси — в этом почему-то Захарьины всегда были уверены, да объяснили, что царствовать — значит, делать все, что тебе пожелается, награждать без дела и карать без вины. При этом не озаботились растолковать ему обязанности святые помазанника Божия, что такое есть справедливость и милосердие. И к церкви христианской не приучили, ибо Захарьины сами были нетверды в вере православной, как мы все знаем.
Вместо этого Захарьины потворствовали царевичу юному во всех забавах диких и жестоких, кои окаянный Федька придумывал. Любая прихоть Ивана немедленно удовлетворялась, любая вина прощалась, любая его шалость вызывала восторг, а любая шутка смех. Рассказывали, что в младенческие годы он развлекался отрыванием крылышек у мух, потом свертывал головы у мелких пичуг, которых специально ловили для него, затем вешал кошек и скидывал собак с высоких помостов, куда заманивал тех мясом. Когда дали ему в руки лук, то сразу же поставили перед ним живую мишень, и вскоре Иван расстреливал десятками кур и зайцев, мечущихся в ужасе по загону, а дядья довольные кричали, что так из него вырастет искусный охотник и воин. Говорят еще, что он как-то зазвал на крышу терема дворового мальчика, который ему всегда прислуживал, и спихнул его вниз, а потом стоял и смотрел, как из него, умирающего, вытекает кровь. Даже не знаю, можно ли всему этому верить. Дети бывают жестоки, жестокость проистекает у них из незнания нравственного закона, вызывается любопытством и стирается короткой памятью. Им интересно, как устроена внутри игрушка, будь то кукла или человек, а распотрошенная игрушка отбрасывается в сторону и быстро забывается, заслоненная новыми игрушками. Для того и нужен ребенку пастырь, чтобы объяснить ему ценность и неприкосновенность жизни любой твари Божией. Но можно предположить, что, если вместо пастыря рядом с ребенком окажется слуга диавольский, он может жестокость эту развить до пределов, хозяину его присущих. Так ли это, я не знаю, хотел с Макарием обсудить, да не успел.
С такими вот задатками прибыл Иван в Москву, но еще три года, вплоть до венчания своего на царство, вел себя тихо и если где и безобразничал, то только втайне в Александровой слободе, куда уезжал с Захарьиными и двором своим по нескольку раз на год. Тогда же, как рассказывают, стала сбиваться вокруг него да Федьки Романова компания людей молодых и беспутных. Первыми из них были Афанасий Вяземский, свою честную фамилию опозоривший, да другой Федька — Басманов, достойный своего отца. Все они были старше Ивана и наделены всеми мыслимыми пороками, и, объединившись, все дальше уводили его с дороги добродетели. А что иные говорят, будто бы Иван в этой компании верховодил, то это, конечно, неправда, хотя бы по возрасту его малому. То же подобострастие и даже трепет, которые я сам наблюдал в отношении к Ивану его присных, следует относить только к званию его царскому и величию его души, которое даже эти нехристи и охальники чувствовали.
В сущности, только во время венчания народ московский в первый раз разглядел своего молодого царя, на которого до сей поры никто не обращал внимания. Увидели они отрока, очень высокого для своего возраста и тонкого в кости, с лицом пригожим, гладкостью своей на девичье похожим, с таким же по-девичьи капризным ртом, в противоположность этому серые глаза глядели холодно и настороженно, и даже не верилось, что они могут вмиг разгораться веселым огнем. Портили этот облик, во всем царственный, лишь светлые, с легкой рыжинкой волосы, пышными волнами спадавшие на плечи. Такая прическа и деве юной неприлична, не то что мужчине. Вестимо, кто эту заразу к нам принес — Захарьины, вон и Федька Романов таким же бараном смотрелся. А глядя на Ивана с Федькой, и остальные московские шалопаи принялись власы отращивать, как будто у них горе какое случилось или царь опалу наложил.
Прошло немного времени, и народ московский познал и нрав молодого царя. Вернувшись из Александровой слободы после розыска об измене Старицких, Иван предался забавам, ничем не сдерживаемым. Едва ли не каждый день вырывался он на коне во главе банды своей за ворота Кремля и скакал по улицам московским, давя жен, старцев и детей и веселясь их криками. Наслаждался он и пожарами и всей суматохой, вокруг них происходящей. Говорили, что иные ласкатели для развлечения царя специально поджоги устраивали, но я не верю, что Иван знал об этом. На тех пожарах он ведь не всегда смеялся, а, бывало, сам в огонь бросался и выносил какого-нибудь ребенка задыхающегося. Я же вам говорю: хороший он был мальчик, хороший!
Но народ московский этими забавами был весьма обозлен. С особенным же неудовольствием взирал он на княжну Марию Черкасскую, всегда в свите Ивановой скакавшую, сидя на лошади по-мужски. Она по обычаям народа своего возомнила, что коли жених ее царственный Димитрий скончался, то теперь младший брат на его место заступает, и вела себя как царица не только что будущая, но уже как и настоящая, всеми окружающими помыкая. Народ же при виде ее взгляд отводил, чтобы не встретиться с глазом ее черным, и плевал вслед ей на землю, и крестился, и приговаривал: «Помилуй нас, Господи, от царицы египетской!» — такое у нее прозвище в народе было.
Бояре же на все забавы эти смотрели, посмеиваясь: «Веселится державный!» Хоть и бунтовали они против власти государя, но лично к нему никаких недобрых чувств не испытывали, все ж таки не звери, а христиане добрые по крупным праздникам. Да и как было не восхититься им, веселостью его, фигуркой ладной, проворством и смелостью!
Тут в наблюдениях моих некоторый перерыв образовался, не так чтобы большой, меньше года, но, как видно, упустил я что-то существенное и потом несколько лет разобраться в событиях не мог. Но перерыв тот был извинителен. Во-первых, княгинюшка моя ко мне вернулась, так что мои глаза, уши и все прочее только на нее устремлены были. Во-вторых, занятие у меня появилось, которое забирало все мои мысли и время, от княгинюшки оставшееся. Вы, вероятно, помните, при каких обстоятельствах трагических возродился мой давний интерес к летописям и книгам. А тут еще митрополит, кончину близкую чуя, призвал меня к себе и назначил мне послушание долгое, совсем как в монастыре, — продолжать дело его книжное, не дать ему заглохнуть. Чувствовал Макарий, что, как уйдет он, недруги науки книжной и истории правдивой все по листику разметут и на другие нужды израсходуют. А еще шепнул он мне на ухо, что боится пуще всего мести Захарьиных, которые в безрассудной ненависти к Адашеву и Сильвестру могут одно из их главных детищ — двор печатный — под корень порушить.