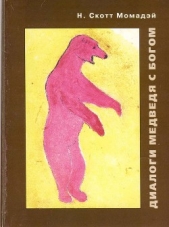Грустный шут
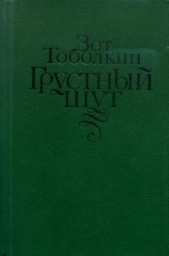
Грустный шут читать книгу онлайн
В новом романе тюменский писатель Зот Тоболкин знакомит нас с Сибирью начала XVIII столетия, когда была она не столько кладовой несметных природных богатств, сколько местом ссылок для опальных граждан России. Главные герои романа — люди отважные в помыслах своих и стойкие к превратностям судьбы в поисках свободы и счастья.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Одной из жертв оказался цыган Янко. Марья Минеевна осталась вдовой.
Трубил князь на сторожевой башне, отрешенно глядя в высокое небо. Едва проснувшись, навсегда уснула душа князя. Ни честолюбие, ни корысть — ничто теперь ее не разбудит.
А труба трубит. Она похожа на только что раскрывшийся золотой цветок. В развернутой чаше алое солнце. Оно оглядывает землю от Южного полюса до Северного и, возможно, видит большой черный парусник, на борту которого еще совсем недавно красовалась загадочная надпись «Арес». Ее замазали, дав кораблю название попроще — «Светлуха».
Бежит, качается на волнах «Светлуха». Ее преследует кораблик поменьше. Но солнце и его видит, и видит, наверно, изможденного человека с повязкою через лоб, Першина, подвижника в своем роде. И — Фишера, которому изменила удача. От неудач он занемог и вряд ли теперь поднимется.
Где-нибудь, хоть и не скоро еще, оба судна встретятся. Тот, кто хочет открыть, откроет. Кто хочет догнать — догонит.
А мальчик, еще недавно немой, все это запишет.
Спасибо мальчику, еще недавно немому. Хоть и коряво, но донес он до нас случившееся.
Легко ли воде, корабль несущей? Легко ли кораблю с людьми на палубе? А людям с их бесконечными дорогами, с их пестрыми судьбами легко ли? Что гонит их через эти серые волны?
Бросают волны корабль то носом в бездну, то кормою, то кладут на борт, и тогда волна, шипя, как масло на сковородке, прокатывается по палубе. Человеку, непривычному к морской качке, муторно. Муторно и Даше с Гонькой. Оба пластью лежат. Гонька за все дни плавания записал в судовом журнале одно только слово: «Помираю». Но слава богу, юнга ошибся.
Бондарю, душе сухопутной, тоже худо. Его качает по двум причинам: от моря и от вина. Два раза смывало сонного за борт. Вылавливали — он требовал себе ковш и безгрешно засыпал.
Митя каждое мгновение занят: он и за навигатора и за геодезиста.
— До чего дошел человек, — подмигивает Барма смешливому Степше Гусельникову, — землю с морем положил на бумагу…
Куда ни глянь, однообразное тусклое пространство, лишь островок малый нежданно возник на нем, да вон вдали косатка играет, бросая над волнами могучее тысячепудовое тело.
— Страх-то какой! — забыв о болезни, его донимавшей, следит за гигантским зверем Гонька. — Прямо гора летящая!
— Вот и запиши в журнал, юнга: «На широте…» — Митя высчитывает координаты и велит Гоньке отметить, что в этом месте встретились в море с косаткой.
— Неужто мы первые здесь? — вслух размышляет Барма.
— Не первые, братко. Наверняка не первые. Потому как беспокоен человек, вечно стремится куда-то. Но карту мы первые составляем. Это я точно знаю.
Даша, бледная от духоты и недуга, кое-как выбралась на палубу. Волна кинула шхуну в пропасть, словно хотела переломить. Барма подхватил жену на руки, заботливо усадил на канатную бухту.
— Кок-то из меня — ох, — через силу пошутила Даша.
По времени — вечер, серый и долгий, однако над мачтами висит солнце, позолотившее слабенькие облака. Сами небеса холодны и серы, и столь же холодно и неприветливо море, над которым горланят птицы. На корме устроился альбатрос.
Море здесь неглубокое и, видимо, от скал подводных полосато. Егор часто вымеряет глубину лотом.
Судно, черное, широконосое, под черными пиратскими парусами, летит к светлому горизонту. Там дождь с грозою, там радуга. Над морем, ближе к судну, еще одна радуга, поменьше. И кажется — зверь какой-то с детенышем склонили цветные гибкие шеи и пьют, пьют из моря и не могут напиться. Может, это жираф с теленком? А может, змей красоты сказочной?
Нет, не выпить им моря. И, словно поняв всю тщету усилий, цветные змеи стали бледнеть и скоро исчезли. А Гонька записал в журнале кратко:
«А нынче видели две радуги. Будто кони запряжены в дуги с лентами. Ох, Кирша, Кирша! Видал ли ты ленты такие? Тоскливо мне без тебя…»
Так и плыли: все ровня, ни чинов, ни рангов. Братья, с малолетства приученные к морю, слушались Митю и Егора беспрекословно. Понукать их не приходилось. Вот только один, пока еще не зачисленный в команду матрос был непослушен, бил ножонками, отчего Даша переламывалась надвое и часто скрывалась в трюме от чужих взоров.
— Просится? — посмеивался Барма и, положив ладонь на ее чрево, слушал, как рвется на волю его сын. А что сын это — Барма не сомневался. — Выпускай его поскорей. Наскучило парню в темноте.
— Рада бы, пора не приспела, — печально кривя губы, говорила жена. Не выдержав боли, вскрикивала, жаловалась: — Ох, Тима! Боюсь…
— Чего, дурочка? Когда это баба русская рожать боялась? Меня вот мать на ходу родила в дроворубе. Потому и люблю я лес. И зверя люблю. Зверь ко мне тоже добр. Так, Зая? — Зверек затряс длинными ушами, в подтверждение чихнул и тронул за щеку лапой. «Хороший, добрый ты человек», — говорил его преданный и бесхитростный взгляд. Барма ценил эту привязанность. Из всех четвероногих выбирал самых слабых. Да и среди людей не искал сильных, и потому беззащитным людям с ним было надежно. И люди и звери отвечали ему преданностью, слушались и служили, точно Ивану-царевичу, помогая в беде и в горе.
«Может, он тоже из сказки? — влюбленно глядя на мужа, думала Даша. — Родить бы ему сына, такого же дерзкого и зубастого. В море родить, окрестить в купели соленой…»
Корабль мчится. Свободные от вахты матросы слоняются по палубе, пристают к выздоровевшему Бондарю, учат плясать увязавшегося за судном альбатроса. Тот лишь машет неловко крыльями, скользит по палубе и жалобно вскрикивает. Братья смеются, забыв, сколь жалки и беспомощны были недавно сами.
— Эй вы! Не троньте птицу! — одергивает братьев Барма и велит сесть им в кружок. — Сядьте да лучше про себя расскажите. А Гонька про все про это запишет. С тебя, что ли, начнем, Егор?
— С меня? — испуганно ущипнул редкую бороденку Гусельников-старший. — А чо я буду рассказывать?
— Все. От рождения до этого часу.
— Это святые жития сочиняют. Кому жизнь моя интересна? — Егор обиделся: «Зачем пытает этот насмешник? Наверно, в дураках выставить хочет. Негоже старшему перед младшими ронять свое достоинство». — Начинай с Петра. Я глубину пойду померяю.
— Можно и с Петра, — Барма не настаивал. — Давай, Петруха, наворачивай про свое житье. Раз уж в братство меня приняли.
— Не знаю я, про чо наворачивать, — угрюмо насупился Полтора-Петра.
— Такого не бывает. У поденки за день и то много чего наберется. А ты тридцать лет прожил. Ну, смелей! Гонька, востри перо!
— Дак я это… Я… — Петруха надолго задумался, но Барма напомнил ему толчком в бок. — Раз уж надо, скажу. — А сам слова выволакивал из себя крючьями. Пока тащит одно да выговаривает, другие уж забываются. — Ну вот, родился я, значит… вас встретил, значит. Теперь, значит, плаваю…
— Все, что ли? Ну, Златоуст! — рассмеялся Барма, оглядев смущенных братьев. — Да ежели всяк человек столь же рассказывать о себе станет, то лет через сто нас с вами из памяти вычеркнут. Прав я, Гонька?
— Прав, Тима, — ответил мальчик, пожалев в душе косноязычного и нескладного Петра. Когда работает человек — бот чинит или мат вяжет, — им залюбуешься. Руки много красноречивей его языка. Запугали мужика, забили, — вот и стесняется, боится людей. Во всяком недруга мнит. А здесь друзья собрались, товарищи.
— Разъясню-ка я, Петруша, каков ты есть человек. И умный, и честный, и все на свете умеешь. И руки твои сильны и ловки, и сердце отзывчиво.
— Пошто насмешки с меня строишь? — обиделся Полтора-Петра. Чуял, не к добру вовлек его в круг Барма, — сбежать бы. Но корабль мал, куда сбежишь? И большак — тоже хорош — вместо себя подсунул.
— Сиди, — властно остановил Барма и, поудобней усевшись, начал: — Произвели Петрушу на свет в достославной деревне Кошкиной…
— То правда, — подтвердил Петр. — Гусельниковой звалась ране. Да кошек в ей много развелось: вот и прозвали Кошкиной.