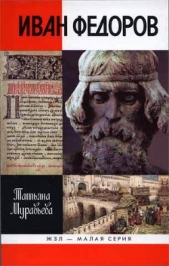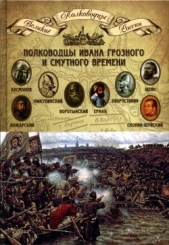Мятежное хотение (Времена царствования Ивана Грозного)

Мятежное хотение (Времена царствования Ивана Грозного) читать книгу онлайн
Исторический роман Евгения Сухова охватывает первые годы правления Ивана Грозного. Печатается впервые
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Плотники изготовили небольшую и аккуратную домовину, выстругали внутри гладенько доски, чтобы лежалось на них младенцу хорошо и спокойно, а потом, под упокойную молитву, положили отрока Дмитрия на дно каменистой ямы. Ладан казался как никогда едким, заползал в горло и щипал глаза, выжимая у собравшихся слезы.
Анастасия ходить не могла, и стрельцы принесли ее на носилках проститься с первенцем. Царица смотрела на гроб, но у нее не хватало духа, чтобы глянуть на лицо мертвого сына. Пусть он навсегда останется для нее улыбающимся. У царицы не было сил на то, чтобы даже всплакнуть, так и лежала она покойницей на жестком войлоке.
Забрызгал дождь, и его капель походила на погребальную музыку. Бояре и челядь стояли с босыми головами, тяжко было смотреть, как комья земли каменистым покрывалом прятали крышку гроба.
Бросил каждый по комочку глины на дно могилы, и царевича Дмитрия не стало совсем.
Несколько дней Иван Васильевич не покидал берега Шексны. Часами простаивал на сопке, где навсегда остался его первенец. Место это совсем не погост — крест один на вершине, а до ближайшего села верст двадцать будет. «Монастырь надо здесь поставить, — решил царь. — Пусть чернецы за могилкой младенца посмотрят».
Богомолье Ивану Васильевичу сделалось в тягость, но до монастыря святого Кирилла он дошел. Монахи встретили его, стоя на коленях, так почтили они самодержавного печальника.
Царь был растроган — каждого поцеловал в уста; игумену подарил крест, сняв его со своей груди. Хотел отказаться строгий схимник от царского подарка, но, заглянув в глаза, переполненные болью, принял пожалование с благодарностью.
— Сбылось пророчество отца Максима, — пожаловался царь. — Говорил мне старик: «Не езжай на богомолье, без сына вернешься». Ехал я в монастырь с покаянием, а приехал с панихидой.
У скорби слов немного. Сколько раз игумену приходилось утешать мирян, а вот царя впервые.
В горе-то все одинаковые.
— Не гневи Господа, Иван Васильевич, поплакал и хватит! Душа младенца уже на небе, ему там хорошо. А вот вам с царицей жить надо. Нарожаете еще детишек. Много плакать — Бога гневить.
Строгие слова говорил игумен, может быть, и прогневался бы Иван, но заглянул в глаза старца и понял, что тот знает, о чем говорит, — так может смотреть только человек, который аршинами мерил собственное горе.
— Молись, и пребудет спасение, — сказал старик на прощание.
Только в одиночестве человек способен познать величину горя, и Иван Васильевич сполна ощутил его тяжесть, взвалив его себе на плечи.
Вернулся царь в Москву другим, и столица уже была иной.
Иван Васильевич медленно привыкал к новой Москве: к хороводу выстроенных хоромин, к новым площадям и торговым базарам. Даже крики зазывал и купцов казались ему не такими громогласными, как прежде, — исчезла в них беспечность и веселость. Куда подевалась былая бесшабашность, а сами базары как-то потускнели и сделались тише. Видно, и городу требуется время, чтобы свежие язвы затянулись коростой.
Только базар неподалеку от дворца как будто остался прежним. Спалил огонь деревянные прилавки и торговые ряды, но купцы отстроили их по новой уже на следующий день и, как прежде, нарекли: Мясной ряд, Калашный ряд.
Лобное место тоже оставалось прежним. Здесь все так же толпился народ — деловые люди и бездельники дожидались царских указов и вестей. Все те же напыщенные бирючи [56], высоко задрав бороды, зачитывали царскую волю и милости. С их слов царь Иван карал и жаловал. И они, набравшись царского величия, чинно всходили на Лобное место.
Прежняя была Москва и все же не та. Может, изменилась она потому, что сам царь сделался другим. Холопы знали царя безудержным в веселье, неистощимым на бедовые выдумки: то коней через толпу прогонит, то забавы ради девку расцелует, а то вдруг надумает дурачиться в кулачном бою или вдруг заставит родовитого боярина надеть кафтан наоборот, и ходит лучший муж, уткнув рыло в воротник, на потеху государю и черному люду.
Присмирела Москва.
Тише сделалось и в посадах. И государь уже не тот, что раньше — беззаботный отрок, бегающий с ватагой сорванцов. Сейчас это был самодержец, покоривший Казанское ханство, и отец, потерявший сына, желанный муж и государь, испивший горечь предательства. Все было. Все познал Иван. И в голове у царя Анастасия Романовна отыскала первый седой волос. Вскрикнул Иван от боли и затих под ласковой рукой царицы. Вот так бы и все беды из него повыдергать, как этот состарившийся волос. Да не получится, не видать печаль снаружи, слишком глубоко проникла вовнутрь.
Давно Иван Васильевич не выезжал на охоту, и этот зимний выезд по едва выпавшему снегу доставил радость. Аргамак беззаботно фыркал, выпускал клубы горячего пара — он норовил вырваться вперед, брал на грудь холодный зимний ветер, но твердая рука царя всякий раз сдерживала его от быстрой езды.
На берегу Яузы царь остановился. Склон был крут, и с самого верха, попирая страх, с ледяной горки съезжали мальчишки. Некоторое время царь смотрел, как они, не уступая друг другу в отчаянной смелости, рвали порты и протирали овчины (видно, в этот миг царю вспомнились собственные проказы), а потом, махнув рукой, повелел трогаться дальше.
Несколько раз санный путь перебегали зайцы. Беляки величиной с небольшую собаку останавливались неподалеку и, не скрывая настороженного любопытства, провожали царя немигающим взглядом. Псы гавкали, рвались вперед и задыхались от хрипа, но псари крепко держали в руках поводки, не давая борзым вырваться на свободу.
Иван Васильевич выехал не за зайцами, сейчас его занимали стада туров, которые паслись неподалеку от московских посадов. Иногда они подступали совсем близко к городу и внушали своими огромными размерами суеверный ужас крестьянам, которые никак не отваживались прогнать их обратно в лес. Так и ходили они господами на пастбищах, поедая сытую рожь, пока густые дебри вновь не призывали к себе своих заблудших детей.
С недавнего времени стада туров заметно поубавились, и своим указом Иван Васильевич запретил на них охоту. Может, оттого они и разгуливали вольно, что почувствовали царскую опеку.
Губные старосты каждый месяц писали Ивану о том, что пойман злоумышленник, посмевший поднять рогатину на его добро, и царь разрешал казнить наглеца, как ворога.
Туры осмелели настолько, что подходили к выпасам и случались с коровами. И часто среди стада можно было увидеть черного теленка с огромной головой и белой полоской вдоль спины — это плод грешной любви между туром и коровой. Но если быки не смели пресечь коровий блуд, заметив вблизи стада могучего соперника, то туры похождения сородича воспринимали как оскорбление всему сообществу и немедленно изгоняли оступившегося из стада.
Ивану Васильевичу в прошлом году пришлось наблюдать картину, как три буйвола выталкивали из стада крутыми рогами огромного черного самца. Пакостник тур не желал покидать сородичей, заходил то с одной, то с другой стороны стада, но буйволы, наставив рога на обесчещенного, с завидным упрямством выпроваживали провинившегося прочь. Опальный тур не мог жить среди коров, но дорога назад в стадо ему была закрыта. Он стоял посреди огромной поляны и, подняв голову кверху, заревел. Государь услышал в этом реве столько боли, сколько не может плачем выразить и человек. Скорее всего он просил прощения у сородичей — слишком велика цена за слабость, чтобы быть отверженным.
Самец стоял непримиримый, гордый, и было видно, что он лучше погибнет, чем оставит стадо. Тур снова поднял огромную голову и опять заревел, но сейчас в его голосе слышалось нечто иное — буйвол вызывал на поединок. Иван Васильевич, спрятавшись с челядью за соснами, с интересом наблюдал за тем, как три матерых самца заходили к нему с разных сторон. Они признавали за ним силу и понимали, что отверженный самец будет драться до конца, но и сами буйволы не могли отступить, следуя заповеди, которая была заложена в их крови.