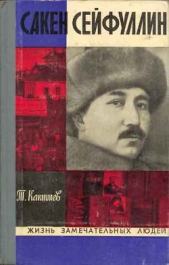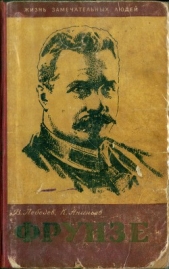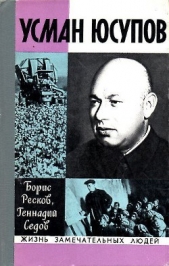Тернистый путь
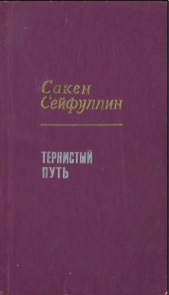
Тернистый путь читать книгу онлайн
Жизнь Сакена Сейфуллина — подвиг, пример героической борьбы за коммунизм.
Солдат пролетарской революции, человек большого мужества, несгибаемой воли, активный участник гражданской войны, прошедший страшный путь в тюрьмах и вагонах смерти атамана Анненкова. С.Сейфуллин в своей книге «Тернистый путь» воссоздал картину революции и гражданской войны в Казахстане.
Это была своевременная книга, явившаяся для казахского народа и историей, и учебником политграмоты, и художественным произведением.
Эта книга — живой, волнующий рассказ, основанный на свежих воспоминаниях автора о событиях, в которых он сам участвовал. В романе показан восставший народ, выведены типы карателей, баев, мулл и алаш-ордынских главарей. Роман проникнут сочувствием автора к угнетенному народу, ведущему борьбу за свое освобождение, революционным энтузиазмом, верой в победу революции.
По охвату жизненного материала роман «Тернистый путь» — монументальное произведение основоположника казахской советской литературы, писателя большевика Сакена Сейфуллина.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
С приходом к власти белые срочно созвали уездный съезд. Из поселков и аулов прибыли исключительно баи и бывшие волостные. Но как ни строг был отбор делегатов, все же из некоторых мест прибыли на съезд сочувствующие советской власти. В день открытия съезда они заявили: «В первую очередь надо освободить из тюрьмы работников Советов!»
Главари казачества, баи и офицеры, задетые за живое таким заявлением, арестовали на месте сочувствующих заключенным и учинили им допрос.
Белые с каждым днем свирепели все больше. Чванливые легкомысленные офицеры шлялись по улицам Акмолинска. Офицеры и байские сынки походили на взбесившихся годовалых верблюдов.
Тюрьма не вмещала арестованных. Вновь поступающих волокли в подвалы каменных домов, наскоро устраивали проверку и освобождали «невредных». Некоторых освобождали за взятку. Выпустили несколько жигитов из «Жас казаха».
Как «сочувствующих большевикам» освободили служивших в совдепе Дюйсекея Сакпаева, Темиргалия Асылбекова. Выпустили ветфельдшера Наурызбая Жулаева, Даута Бегайдарова, из учителей — Галимжана Курмашова, Галия Китапова, из писарей Карима Аубакирова и ряд других.
Среди них совершенно случайно с помощью родственников оказался на воле Ували Хангельдин, образованный, умный жигит, подлинно идейный социалист. Спохватившись, власти стали искать его, чтобы посадить обратно в тюрьму, но Ували успел скрыться.
Иные каялись, говорили, что они к большевикам примкнули по неведению и незнанию; таких освобождали. Освободили, например, Нуржана Шегина.
Положение в тюрьме становилось все хуже. Собственную одежду вплоть до нижнего белья отобрали. Выдали нам казенное нательное белье из грубого льна, короткий пестро-черный пиджак, вместо постели мы получили по одному льняному мешку, слегка набитому сеном. Спим на деревянных нарах, а кто попал позднее — на земляном или каменном полу. Камеры закопченные, вонючие, очень тесные, переполненные. С воли передачи не принимаются. Кормят нас водой, непропеченным ржаным хлебом с горелой коркой. Из полусырого хлеба можно делать кумалаки [47] и пешки для игры.
В тюрьме двенадцать камер сплошь забиты большевиками. Заключенные сильно похудели, будто застигнутые тяжелой болезнью. В нашей камере два окна, на них решетки из четырехгранного толстого железа. В одном окне есть форточка. Открывать ее не разрешают, но она у нас все время открыта. Духота от этого нисколько не рассеивается. Когда укладываемся спать, ни на деревянных нарах, ни на каменном полу не найдешь свободного места, даже размером в ладонь.
Днем сидим, сгрудившись полукругом, и ищем способа убить время. Одни играют в шашки из хлебного теста, другие переговариваются, третьи поют песни, четвертые хмуро бормочут о чем-то, пятые, уставившись в окно на волю, часами сидят безмолвно и неподвижно.
Каждый день перед окнами появляются родственники или знакомые арестованных. Казаки никого не подпускают близко, а когда их сменяют мобилизованные в солдаты крестьяне, те делают вид, что ничего запрещенного не замечают, и тогда можно перекинуться через решетку словцом со своими родственниками, услышать весточку о жизни на воле.
Тюрьма находится на западной окраине Акмолинска. Окна первых четырех камер обращены на улицу. Видны крайние городские дома, виднеется холмистая степь за городом и далекая роща на берегу Ишима.
При хорошем надзирателе я подхожу к решетке и долго-долго смотрю на волю…
Там цветет лето, зеленеет город, течет голубой Ишим в зеленых берегах.
Шагах примерно в ста пятидесяти от нашего окна стоит дом, в котором живет знакомый старика Кременского, одного из наших заключенных. Сыновья Кременского часто заходят в этот дом, открывают настежь окна и тайком смотрят в нашу камеру через бинокль. Мы зовем к решетке самого Кременского, и он начинает переговариваться с сыном молчаливыми жестами. Мы ничего не понимаем в их переговорах, но сам старик понимает и передает нам какую-нибудь очередную новость.
Дивную пору лета проводить в тюрьме особенно тяжело. Да и вообще, когда и кому легко переносить тесноту, духоту, грязь, зловоние и неволю? Сыну привольных казахских степей оказаться в железных оковах, в тесной камере — тяжелее кромешного ада…
Сижу у решетки и гляжу на волю. Вижу вдали зеленую холмистую степь. Летний ветерок, как шелк, нежно овевает лицо. Я подставляю свою грудь ветру. Его дуновение целебно действует на истомленное тело. Быстрая мысль вырывается на свободу и несется куда-то вдаль, как сокол, вырвавшийся из неволи, оставляя темницу позади. Она витает над зеленой степью, над ковровым лугом, над бескрайним простором. Она в стремительном беге посещает безлюдные горы и дремучие леса, где звонко журчат ручьи. Она благоговейно внимает пенью птиц — многоголосому, мелодично нежному; она проходит вдоль берегов больших озер с белыми лебедями, мчится по речной глади, состязаясь с быстротой ее извилистого течения, проносится по аулам и снова уходит в безлюдную бескрайнюю степь…
Сижу у решетки… Вон идет незнакомый казах и гонит вола, запряженного в рыдван. Они идут из той, дальней степи. Вол не торопится, медленно тащит рыдван, груженный кизяком. И казах не торопится. Вот он безмятежно глянул на окна тюрьмы и ленивым движением ткнул вола. Опустив голову, вол бредет прежним шагом. Колеса рыдвана скрипят, медленно вертятся с глухим, подавленным стоном… Где ты, чудесная свобода?.. Кто знает твою подлинную цену, кроме заключенных в темницу? Этот невзрачный казах во сто крат счастливее нас — он на свободе, хотя и участь незавидная — возить на рыдване кизяк. Эх, свобода, нет ничего прекраснее тебя!
Казах прошел, погоняя вола…
А за ним не спеша, ведя за собой цугом птенцов, появилась белая гусыня. Отяжелевшая от жира, изогнув длинную шею, она покачивает клювом и спокойно, важно вышагивает. Она о чем-то ласково гогочет птенцам. Совсем недавно они вылупились на белый свет, малюсенькие, желторотые, идут, растопырив лапки, барахтаются, торопятся за матерью. На ласковый зов ее отвечают тоненьким писком. Гусыня оглядывается, беспокоится о птенцах и не спеша продолжает вести их на лужайку, в низину.
Вот она, красота свободы! Вот оно, дивное лето!
Белая гусыня с птенцами остановилась на лужайке…
Вот появилась откуда-то молодая девушка-казашка. Еще издали она пристально смотрит на тюремные окна. Она видит меня за решеткой и останавливает на мне свой взгляд. Глаза ее блестят, словно черносливы. Ей лет пятнадцать, она тонкая, стройная, среднего роста. На ней белое платье с двумя оборками на подоле, на голове шапка из черного бархата. Густые, атласно-черные волосы заплетены в две косы, а в кончики вплетены ленты из красного шелка. Неторопливо шагая, она приблизилась к окну… Смотрит на часовых… Шаги ее совсем замедлились. Остановилась, оглянулась назад, будто дожидаясь кого-то. Потом тоскливо посмотрела на меня в упор, не смогла долго стоять и пошла дальше. Ее проникновенный взгляд словно пытался разделить мое горе. Она мне показалась родной сестрой с чувствительным добрым сердцем. Чистый взор ее успокоил мою печальную душу. О моя сестра, с чутким сердцем, с гибким, как лоза, станом! Зачем так пристально и печально ты смотришь на меня? Твой взгляд подобен ласточке, которая брызгает воду крыльями, чтобы потушить пожар. Спасибо тебе!
Через день ты подходишь снова и все время упорно глядишь. Кто ты? Чья дочь? За кого принимаешь нас? За великих преступников, негодяев, развратников, за врагов своего народа и родины? Ты смотришь на нас с осуждением или с сожалением? О моя сестра с отзывчивым сердцем! Чьей бы ты ни была — великое тебе спасибо!
Эта девушка много раз проходила мимо тюремных окон. Но близко подходить не решалась, не хватало смелости. Чья она дочь, мы не знали, но лицо ее стало мне казаться хорошо знакомым, родным. Я привык настолько к ее посещениям, что если не видел ее два дня, начинал тосковать.
Поет ли жаворонок перед железной решеткой, заглянет ли солнце в холодную, сырую камеру, проникнет ли шелковистое дуновение ветерка с ароматом зеленой степи — все становится целебной силой для израненной души заключенного. И незнакомая девушка казалась мне всемогущим лекарством. Она тоже привыкла видеть мое лицо, стала здороваться со мной легким движением головы.