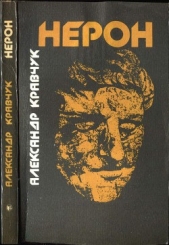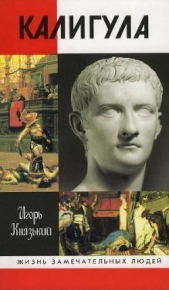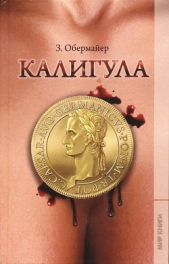Гай Иудейский
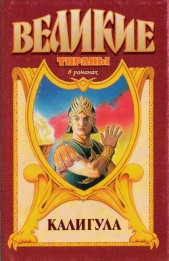
Гай Иудейский читать книгу онлайн
Новый роман Михаила Иманова о римском императоре Гае Калигуле захватывает читателя напряженностью действия, неожиданностью сюжетных ходов. Сохранив все исторические сведения о жизни этого необузданного императора, заворожив читателя интригой, автор вводит в действие вымышленных героев и вымышленные повороты событий, но внутренняя логика романа безупречна — автор блестяще «угадал» своего героя.
Книга будет интересна самому широкому кругу читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И, проговорив все это, я сжал ее что было сил. Она дернулась в моих объятиях раз и другой и наконец подняла (я чуть расслабил руки) голову.
— Нет, Гай, — произнесла она так, что у меня самым настоящим образом все похолодело внутри и я готов бы разрыдаться. — Нет, я согласна, я так люблю тебя. Я сделаю, как они хотят, но только чтобы… чтобы тебе было хорошо.
— Что ты такое говоришь! Замолчи! — гневно вскричал я, уже не понимая, наигранный это гнев или настоящий.
Но она опять сказала, что согласна, что ради меня она готова пойти на смерть, а унижение все-таки не смерть, хотя бывает, что и хуже смерти.
Она так говорила, повторяла одно и то же раз за разом, то ли меня убеждая, то ли себя саму. Мне бы радоваться, что все так неожиданно хорошо получилось, но радости не было в моей душе. Напротив, я чувствовал раздражение и досаду — слишком все как-то легко получилось. И Друзилла согласилась слишком легко. Я стал думать, что, может быть, она сама хочет этого — сильные мужчины, новые ощущения; она жертва и все такое прочее, что дает женщине особенное удовлетворение. Удовольствие изысканно-порочное, болезненно-сладкое.
— Да ты просто дрянь, — неожиданно для себя отчетливо и твердо произнес я. — Самая настоящая низкая шлюха!
Она не только не ожидала от меня такого, но, кажется, и плохо расслышала.
— Что ты сказал, Гай? Я не понимаю.
— Я сказал, что ты шлюха и дрянь, и ты готова спать с первым встречным. Ты дрянь, дрянь, и ты на все готова, чтобы только насытить свою плоть.
— Нет, Гай, нет, — простонала она, но я был неудержим:
— Дрянь, дрянь, мерзкая гадкая тварь! Энния была лучше тебя, а ты готова… Ты на все готова, только бы удовлетворить свою похоть! Дрянь, дрянь, гадина!..
Я не мог остановиться и выкрикивал слова, не понимая их смысла. Уже не слышал себя и ничего вокруг не видел и не слышал. И вдруг услышал повторяемое раз за разом:
— Ненавижу! Ненавижу!
Я словно бы открыл глаза: Друзилла стояла в двух шагах от меня, подняв руки на уровень плеч и прикрыв ладонями уши. Глаза ее тоже были закрыты. И она повторяла как заклинание:
— Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!
Я понял, что она, наверное, уже давно не слушает меня и повторяет свое. Гнев мой не был бы столь яростным, если бы не прикрытые ладонью уши. Почему-то это особенно прогневало меня. Глаза мои налились кровью так, что я увидел Друзиллу в красном свете. И все вокруг сделалось красным. Я подскочил к ней, схватил ее за руку и потащил к двери. Она не упиралась, но продолжала повторять свое, хотя я уже оторвал ее ладони от головы.
— Вон! Вон! — кричал я. — Тогда убирайся вон!
Мы были уже у самой двери, когда я почувствовал,
как она раскрылась за моей спиной.
— Кто?! — взревел я, резко развернувшись. — Убью!
И тут же увидел в каком-нибудь шаге от себя лицо
Туллия Сабона. Оно было растерянным. За его спиной стояли еще двое, но лиц их я не сумел рассмотреть, потому что в эту самую минуту пронзительно закричала Друзилла. Я еще держал ее руку в своей и выпустил, испугавшись крика.
На лице Туллия Сабона уже не осталось растерянности. Он не смотрел на меня, а смотрел мне за спину, туда, где должна была быть Друзилла. И стоявшие за ним смотрели туда же. Я оглянулся, и Друзилла прокричала снова — оглушающе, страшно. Ее крик оттолкнул меня в сторону, и я ткнулся спиной в стену и сполз на пол. Никто не бросился помочь мне подняться, и все последующее происходило так, будто меня не было в комнате.
Они бросились к Друзилле, поймали ее и повалили на пол. Она уже не кричала, а только стонала хрипло. Один из вошедших держал в руках кусок толстой материи красного цвета (но, возможно, это мои глаза видели его красным). Они набросили материю на Друзиллу, обернули ее, подняли и понесли к двери. На меня они не смотрели — прошли мимо, громко топая и шумно дыша. Я почувствовал запах казармы. Голова и тело Друзиллы были укрыты красным, и только ноги от колен оставались открыты. На одной ноге не было сандалии, и розовая нежная ступня моей Друзиллы особенно поразила меня. Чем? Я не знаю чем, но мне стало невыносимо больно, и я закрыл глаза.
Когда я открыл их, вокруг было тихо, и я самым настоящим образом ощутил, что меня нет здесь.
Прошло несколько дней. Я не хотел думать о Друзилле, и, если бы не розовая ступня, которую я увидел в последний миг, я бы сумел не думать. А так было трудно забыть: нежность кожи, особенный любимый мною запах — терпкий и возбуждающий, родной, — ее пальчики, каждый изгиб которых я знал наизусть. Все это виделось мне во сне и наяву, мучило и мешало существовать. Именно существовать, потому что о жизни, тем более полноценной, и говорить нечего.
Я звал к себе Суллу. Он приходил, был почтительным и грустным, не говорил мне «Гай», а неизменно и подчеркнуто говорил «император». И мне отчего-то трудно было попросить его называть меня по имени — трудно, потому что стыдно. И вообще, стыд в эти дни, кажется, заполнил и меня самого, и все вокруг. Я не мог смотреть в глаза даже слугам, говорил отрывисто и старался поменьше видеть людей.
Я сказал Сулле, чтобы он ехал со мной на морскую прогулку ночью. Я хотел, чтобы он, как когда-то прежде, рассказывал мне о звездах — в это время года они были особенно ярки. Мы отплыли от берега, я велел гребцам поднять весла, лег на спину и стал смотреть на звезды, а Сулла, сидевший рядом, поднял руку и показывал мне созвездия. Он говорил довольно интересно, правда — в отличие от прежних лет, — монотонно и без энергии и, главное, без убежденности. А я слушал, но мне было скучно. И хотя было интересно, я мало что понимал. Порой я переставал понимать совсем, и голос Суллы рядом оставался только фоном — как шум ветра или плеск волн. Я смотрел на звезды, но что мне было за дело до их красоты и яркости, до гармонии созвездий. Ведь я смотрел на них только для того, чтобы не видеть ничего другого, чтобы не ощущать это мерзкое чувство стыда, похожее на нечистоту тела, которое зудит, и чем больше расчесываешь его, тем невыносимее зуд.
Мы не говорили с Суллой о Друзилле, но я понимал, что он знает все. И знал, что осуждает, — никак по-другому быть не могло. Но я ждал, что он заговорит. Нет, не осуждающе, я не вынес бы этого, а заговорит, жалея меня, а не Друзиллу. Ведь это я был подавлен, и меня наполнял стыд, похожий на нечистоту тела, и — ведь это я был одинок. Одинок, как никто в целом мире.
Но Сулла не понимал этого, он монотонно, хотя и интересно, говорил мне о звездах. О своих звездах, потому что они теперь были только его.
Неожиданно я почувствовал такую злобу, что, резко поднявшись на локтях и толкнув его в плечо (отчего он упал на бок и остался так лежать, подобрав под себя ноги и втянув голову в плечи), проговорил с нехорошим смешком:
— Если я велю выбросить тебя за борт, а берега не будет видно, ты поплывешь, ориентируясь по звездам, или сразу пойдешь ко дну?
Он не ответил и не пошевелился. Тогда я что было сил, не вставая, пнул его ногой. Я не понял, куда ударил его (было совсем темно), но нога словно провалилась во что-то мягкое, неживое, противное, как полуразложившаяся плоть. Именно поэтому я не ударил его второй раз, встал, отошел к носу лодки и велел гребцам грести к берегу.
Я уже не раз говорил, как противны мне были эти так называемые государственные дела. Порой меня от них просто тошнило. Очень редко они забавляли меня — редко и ненадолго. Я всячески их избегал. Но бывало, что уйти от них оказывалось невозможно.
Мне принесли послание от Петрония, которого я отправил усмирять Иудею — евреи так и не приняли в свои храмы моих статуй, и в регионе было неспокойно. Петроний со своими легионами дошел до Птолемиды, города на границе Галилеи [21]. С собой он вез несколько моих статуй. Но евреи не допустили его в свои храмы, а вторгнуться туда силой Петроний почему-то не решился.
Он писал мне, что обстановка очень сложная и жесткие меры принесут один только вред. Делегация местных жрецов объяснила ему, что дело не в статуях императора — они с удовольствием приняли бы их, — а в том, что в их храмах нет никаких изображений вообще: ни человеческих, ни божеских. В конце послания Петроний заверил меня, что готов принять по отношению к бунтовщикам самые решительные меры.