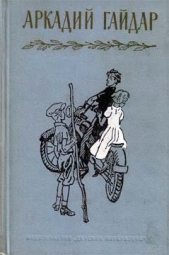Великие дни. Рассказы о революции
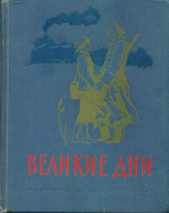
Великие дни. Рассказы о революции читать книгу онлайн
Для старшего возраста.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— За мной иди!..
В окнах огонек маячит. Вошли.
Лукич чихнул от табачного дыма, шапку снял и торопливо перекрестился на передний угол.
— Старика вот задержали. В хутор правился.
Николка со стола приподнял лохматую голову, в пуху и перьях, спросил сонно, но строго:
— Куда шел?
Лукич вперед шагнул и радостью поперхнулся.
— Родимый, свои это, а я думал — опять супостатники энти… Заробел дюже и спросить побоялся… Мельник я. Как шли вы через Митрохин лес и ко мне заезжали, еще молоком я тебя, касатик, поил… Аль запамятовал?..

Такие картины можно было увидеть осенью 1918 года у каждой фабрика, в каждом городе. Рабочие прощались со своими близкими и уходили на фронт — чисто фронт уже подступал к самому городу… Художник П. Соколов-Скаля — "Рабочий отряд уходит на фронт".
— Ну, что скажешь?
— А то скажу, любезный мой: вчерась затемно наехали ко мне банды эти самые и зерно начисто стравили коньми!.. Смывались надо мною… Старший ихний говорит: присягай нам, в одну душу, и землю заставил есть.
— А сейчас они где?
— Тамотко и есть. Водки с собой навезли, лакают, нечистые, в моей горнице, а я сюда прибег доложить вашей милости, может, хоть вы на них какую управу сыщете.
— Скажи, чтоб седлали!.. — С лавки привстал, улыбаясь деду, Николка и шинель потянул за рукав устало.
Рассвело.
Николка, от ночей бессонных зелененький, подскакал к пулеметной двуколке.
— Как пойдем в атаку — лупи по правому флангу. Нам надо крыло ихнее заломить!
И поскакал к развернутому эскадрону.
За кучей чахлых дубков на шляху показались конные — по четыре в ряд, тачанки в середине.
— Намётом! — крикнул Николка и, чуя за спиной нарастающий грохот копыт, вытянул своего жеребца плетью.
У опушки отчаянно застучал пулемет, а те, на шляху, быстро, как на учении, лавой рассыпались.
Из бурелома на бугор выскочил волк, репьями увешанный. Прислушался, угнув голову вперед. Невдалеке барабанили выстрелы, и тягучей волной колыхался разноголосый вой.
Тук! — падал в ольшанике выстрел, а где-то за бугром, за пахотой эхо скороговоркой бормотало: так!
И опять часто: тук, тук, тук!.. А за бугром отвечало: так! так! так!..
Постоял волк и не спеша, вперевалку, потянул в лог, в заросли пожелтевшей нескошенной куги…
— Держись!.. Тачанок не кидать!.. К перелеску… К перелеску, в кровину мать! — кричал атаман, привстав на стременах.
А возле тачанок уж суетились кучера и пулеметчики, обрубая постромки, и цепь, изломанная беспрестанным огнем пулеметов, уже захлестнулась в неудержимом бегстве.
Повернул атаман коня, а на него, раскрылатившись, скачет один и шашкой помахивает. По биноклю, метавшемуся на груди, по бурке догадался атаман, что не простой красноармеец скачет, и поводья натянул. Издалека увидел молодое безусое лицо, злобой перекошенное, и сузившиеся от ветра глаза. Конь под атаманом заплясал, приседая на задние ноги, а он, дергая из-за пояса зацепившийся за кушак маузер, крикнул:
— Щенок белогубый!.. Махай, махай, я тебе намахаю!..
Атаман выстрелил в нараставшую черную бурку. Лошадь, проскакав саженей восемь, упала, а Николка бурку сбросил, стреляя, перебегал к атаману ближе, ближе…
За перелеском кто-то взвыл по-звериному и осекся. Солнце закрылось тучей, и на степь, на шлях, на лес, ветрами и осенью отерханный, упали плывущие тени.
"Неук, сосун, горяч, через это и смерть его тут налапает". — обрывками думал атаман и, выждав, когда у того кончилась обойма, поводья пустил и налетел коршуном.
С седла перевесившись, шашкой махнул, на миг ощутил, как обмякло под ударом тело и послушно сползло наземь. Соскочил атаман, бинокль с убитого сдернул, глянул на ноги, дрожавшие мелким ознобом, оглянулся и присел сапоги снять хромовые с мертвяка. Ногой упираясь в хрустящее колено, снял один сапог быстро и ловко. Под другим, видно, чулок закатился: не скидается. Дернул, злобно выругавшись, с чулком сорвал сапог и на ноге, повыше щиколотки, родинку увидел с голубиное яйцо. Медленно, словно боясь разбудить, вверх лицом повернул холодеющую голову, руки измазал в крови, выползавшей изо рта широким бугристым валом, всмотрелся и только тогда плечи угловатые обнял неловко и сказал глухо:
— Сынок!.. Николушка!.. Родной!.. Кровинушка моя…
Чернея, крикнул:
— Да скажи же хоть слово! Как же это, а?
Упал, заглядывая в меркнущие глаза; веки, кровью залитые, приподымая, тряс безвольное, податливое тело… Но накрепко закусил Николка посинелый кончик языка, будто боялся проговориться о чем-то неизмеримо большом и важном.
К груди прижимая, поцеловал атаман стынущие руки сына и, стиснув зубами запотевшую сталь маузера, выстрелил себе в рот…
А вечером, когда за перелеском замаячили конные, ветер донес голоса, лошадиное фырканье и звон стремян, — с лохматой головы атамана нехотя сорвался коршун-стервятник. Сорвался и растаял в сереньком, по-осеннему бесцветном небе.
1924
АРКАДИЙ ГАЙДАР
ПУСТЬ СВЕТИТ

Отец запаздывал, и за стол к ужину сели трое: босой парень Ефимка, его маленькая сестренка Валька и семилетний братишка, по прозванию Николашка-баловашка. Только что мать пошла доставать кашу, как внезапно погас свет.
Мать из-за перегородки закричала:
— Кто балуется? Это ты, Николашка? Смотри, идоленок, добалуешься!
Николашка обиделся и сердито ответил:
— Сама не видит, а сама говорит. Это не я потушил, а, наверное, пробки перегорели.
Тогда мать приказала:
— Пойди, Ефимка, притащи из сеней лестницу. Да поставь сначала сахарницу на полку, а то эти граждане в темноте разом сахар захапают.
Вышел Ефим в сени, смотрит: что за беда? И на улице темно, и на станции темно, и кругом темно. А тут еще небо в черных тучах и луна пропала.
Забежал Ефим в комнату и сказал:
— Зажигайте, мама, коптилку. Это не пробки перегорели, а, наверное, что-нибудь на заводе случилось.
Мать пошла в чулан за керосином, а Ефимка, разыскивая сапоги, торопливо полез под кровать. Левый сапог нашел, а правый никак.
— Наверное, это вы опять куда-нибудь задевали? — спросил он у притихших ребятишек.
— Это Валька задевала, — сознался Николашка. — Она стащила сапог за печку, воткнула в него веник и говорит, что это будет сад.
— Ефимка, а Ефимка, — тревожным шепотом спросил Николашка, — что это такое на улице жужукает?
— Я вот вам пожужукаю, — ответил Ефимка. И, выкинув из сапога березовый веник, он с опаской сунул руку внутрь голенища, потому что уже однажды эта негодница Валька, поливая свой сад, вкатила ему в сапог целую кружку колодезной воды. — Я вот ей хворостиной пожужукаю!
Но тут и он замолчал, потому что услышал сквозь распахнутое окно какое-то странное то ли жужжание, то ли гудение.
Он натянул сапоги и выскочил из комнаты. В сенях столкнулся с матерью.
— Ты куда? — вскрикнула мать и крепко вцепилась в его руку мокрыми от керосина пальцами.
— Пусти, мама! — Ефимка рванулся и выбежал на крыльцо.
Оглянувшись, он торопливо затянул ремень, надел кепку и быстро побежал темной улицей через овражек, через мостик в гору — в ту сторону, где стоял их небольшой стекольный завод.
В сенях что-то стукнуло. Кто-то впотьмах шарил рукой по двери.
— Кто там? — спросила мать, а Валька и Николашка подвинулись к ней поближе.
— Не спишь, Маша? — послышался дребезжащий старческий голос.
И тогда мать узнала, что это соседка Марфа Алексеевна.