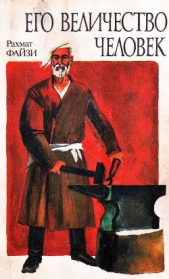Жизнь Лаврентия Серякова
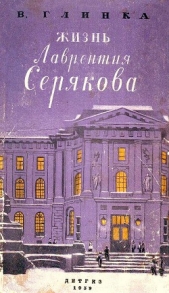
Жизнь Лаврентия Серякова читать книгу онлайн
Жизнь известного русского художника-гравера Лаврентия Авксентьевича Серякова (1824–1881) — редкий пример упорного, всепобеждающего трудолюбия и удивительной преданности искусству.
Сын крепостного крестьянина, сданного в солдаты, Серяков уже восьмилетним ребенком был зачислен на военную службу, но жестокая муштра и телесные наказания не убили в нем жажду знаний и страсть к рисованию.
Побывав последовательно полковым певчим и музыкантом, учителем солдатских детей — кантонистов, военным писарем и топографом, самоучкой овладев гравированием на дереве, Серяков «чудом» попал в число учеников Академии художеств и, блестяще ее окончив, достиг в искусстве гравирования по дереву небывалых до того высот — смог воспроизводить для печати прославленные произведения живописи.
Первый русский художник, получивший почетное звание академика за гравирование на дереве, Л. А. Серяков был автором многих сотен гравюр, украсивших русские художественные издания 1840–1870 годов, и подготовил ряд граверов — продолжателей своего дела. Туберкулез — следствие тяжелых условий жизни — преждевременно свел в могилу этого талантливого человека.
В основе этой повести лежат архивные и печатные материалы. Написал ее Владислав Михайлович Глинка, научный сотрудник Государственного Эрмитажа.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Бруни шел не спеша, давая краткие пояснения, отвечая наклонением головы на поклоны стоявших в залах лакеев. Миновали второй зал русской живописи, из которого открылась было светлая, окруженная колоннадой, нарядная желто-мраморная лестница.
В следующем зале Федор Антонович остановился: — Здесь мы и поговорим с вами… Это был зал Рембрандта. Кое-что Лаврентий помнил по единственному своему приходу в Эрмитаж, другое знал по копиям и репродукциям. Теперь еще медленнее пошли от полотна к полотну, всматриваясь в них. Портрет старого воина с пристальным и жестким взглядом окруженных морщинами глаз… «Снятие со креста», где светом фонаря выхвачено из тьмы безжизненное тело, обвисшее на руках учеников… Столь памятный Серякову «Блудный сын»… Удивительно живое лицо пожилой женщины с поджатыми губами, экономной хозяйки и сплетницы…
— Вы хотели бы гравировать портрет или многофигурную композицию? Мне кажется, лучше портрет…
— Портрет или одну фигуру, Федор Антонович… По правде сказать, все-таки легче…
Наконец Лаврентий остановился на профиле старика с седой бородой, в натуральную величину. Бруни одобрил его выбор.
— В добрый час, начинайте, — сказал он.
Со следующего дня Серяков стал ходить рисовать в Эрмитаж. В зимние месяцы — было начало февраля — музей был открыт для осмотра с десяти до двух часов, но тем, кто хотел, разрешалось оставаться еще часа два, до сумерек. Впрочем, такие любители искусства были редки. Работать было спокойно — за день пройдет через зал десять — пятнадцать человек. При входе офицеров Лаврентий вставал, и редкий из них, хоть и видел, что солдат рисует, догадывался разрешить ему продолжать свое дело. Почти все заглядывали в рисунок, и многие делали замечания, обычно в форме приказа: «Подтушуй здесь!», «Убавь уха!», «Чего ж этого старика рисуешь? Кому он нужен?.. Ты бы дамочку покрасивее…»
Убиравшие залы и сопровождавшие посетителей служители, по-дворцовому называвшиеся лакеями, скоро привыкли к необычайному ученику академии в солдатском мундире, расспросили Серякова о его судьбе. К некоторым и Серяков пригляделся поближе, узнал прошлое — кто из солдат, кто из лакейских детей или дворцовых крестьян, запомнил имена и отчества.
Особенно подружился он с семидесятилетним Василием Васильевичем, убиравшим зал Рембрандта. Отставной гвардеец, тяжело израненный под Парижем, он за сорок лет службы в Эрмитаже стал любителем искусства, авторитетом для него был один Бруни. Похвалив какую-нибудь картину, Василий Васильевич добавлял: «Вот и Федор Антонович каким-то господам тоже говорили, что она в конпозиции востра…» Отметив, что на другой пожелтел лак, сообщал: «Докладал я намедни Федору Антонычу приватно, и они реставратным приказали, чтоб ей занялись».
Когда Лаврентий рассказал, каким рассеянным считают Бруни в академии, старик заметил:
— Они и здесь бывают иной день точно не в себе: им докладаешь, а они мимо променадом идут. Да и понятно: думают-то не про перину аль блеманже, а может, картине какой сумнительной автора определяют… Но небось все нужное в комплекте помнят — нас всех никогда не спутают именами и кто чего стоит, верную апробацию дают — кто грамотный, кто аккуратный и кто вкус чувствует к изячному.
Серяков скоро заметил, что Василий Васильевич соединял все три перечисленных достоинства с любовью к иностранным словам. Любовь эта зародилась, должно быть, еще в заграничном походе, в Париже, где он долго лежал в госпитале, и окрепла от многолетнего слушания разговоров господ — посетителей Эрмитажа.
Исполнительный Василий Васильевич разговаривал с Лаврентием лишь по нескольку минут, а затем удалялся, прихрамывая на подагрических ногах, обметать перовкой картины или просто пройтись по залу, неизменно приговаривая:
— Рисуй, рисуй, сынок, не подгадь солдатской аттестации!..
И без этого напутствия Серяков работал как никогда еще, старательно и неторопливо. Ведь только если рисунок будет очень хорош, совет академии позволит ему гравировать программу. А от особых графических качеств этого рисунка, по которому предстоит работать уже вне Эрмитажа, зависели достоинства будущей гравюры, выразительность и сходство с оригиналом. Лаврентий отлично представлял всю сложность своей задачи. В отличие от недавней работы над «Иеронимом» или копирования другой гравюры на металле, ему предстояло самому найти художественные средства перевода мазков кисти в линии своих штихелей. Прорисовав до последней детали тончайший контур, он занялся разработкой штрихов, передачей всех оттенков света и тени, выраженных в оригинале цветом. Как это было трудно и непривычно!
Через каждые два часа Серяков делал перерыв минут на десять, вставал, разминал ноги, разгибал спину, ел, если никого не случалось в зале, кусок пирога или белого хлеба, сунутый ему в карман Марфой Емельяновной. А главное, прохаживался по соседним залам. Шел то к картинам русских мастеров, то к размещенным по другую сторону зала Рембрандта голландской и фламандской школам. Особенно поглощали его внимание жизнерадостные полотна Рубенса или маленькие картинки Терборха и де Хоха, мастерски передававшие сцены домашней жизни голландских горожан. С большим трудом отрывался он от этих картин и возвращался к своему рисунку.
А вечерами, дома, Серяков уже при свече склонялся над доской и штихелем воспроизводил части своей работы, ища воплощения того, что прорисовал днем.
Почти каждое утро к Лаврентию подходил Бруни. Залом Рембрандта он заканчивал ежедневный обход картинной галереи. Еще издали слышались неспешные шаги, негромкие приказания лакеям, убиравшим залы, или сопровождавшему его реставратору. Остановившись за спиной Серякова и слегка коснувшись рукой его плеча, чтоб не вставал, не прерывал работы, Федор Антонович смотрел на рисунок, постепенно появлявшийся на бумаге. Иногда делал замечания, хвалил, но нередко, постояв молча, новым легким нажимом руки на плечо как бы прощался с Серяковым и шел дальше. Когда же Лаврентий все-таки вставал — не мог же он сидя разговаривать с профессором, — Федор Антонович спрашивал, что видел в Эрмитаже, и порой сам вел к какой-нибудь картине. Однажды, стоя рядом с Серяковым перед «Блудным сыном», Бруни рассказал о жизни Рембрандта, о его славе и богатстве, пока шел обычной дорогой, подчинялся вкусам заказчиков, и о нищете, об одиночестве, когда стал писать только то, к чему влекло сердце.
— Конечно, каждый мастер выбирает сюжеты произведений сообразно своему вкусу и характеру. Но время, в которое живешь, то, что видел и пережил, тоже влияют… Вот моему поколению не очень-то повезло, мы начинали в суровые годы… Путь Рембрандта под силу только подвижнику…
— Но зато после-то его как оценили! — горячо сказал Серяков.
— Ну конечно… Следующие поколения не обманешь, они всех оценят по заслугам…
Федор Антонович постоял, смотря в пространство, потом кивнул Лаврентию и ушел медленной походкой по пустым раззолоченным залам музея.
«Видно, неспроста, что на «Помпее» и «Медном змии», на двух лучших картинах нашего времени, писанных русскими, изображено, как небесные силы людей карают, — думал Лаврентий, усаживаясь за свой рисунок. — Эх, жалко, нет в Петербурге Линка, поговорить бы с ним… Должно быть, после 1825 года было не сладко: лучших людей казнили или в Сибирь сослали, а остальных, в том числе и художников тогдашних, перепугали на всю жизнь… Но и наше время, по правде сказать, не легче…»
Однажды Бруни сам провел Серякова в первый этаж, в кабинет эстампов, в котором тот еще не бывал. В большом зале, украшенном колоннами светло-коричневого гранита и порфировыми вазами, было собрано великое множество гравюр. Они лежали в шкафах и на столах или висели в больших застекленных рамах, легко поворачивающихся на петлях, как листы огромных книг. Шкафы, столы и витрины, сделанные из березы со вставками черного дерева, красиво сочетались с бледно-зеленым искусственным мрамором стен. Это был храм гравюры, хранилище лучших образцов того искусства, которому посвятил себя Серяков. Сюда редко кто приходил — только художники и настоящие знатоки.