Март
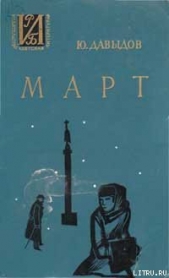
Март читать книгу онлайн
Хмурый Петербург прошлого столетия – вот где происходят основные события исторического романа «Март». Его герои – люди необыкновенной душенной чистоты и удивительной революционной энергии.
Подвижники свободы – Михайлов и Желябов, Перовская и Кибальчич, их друзья и товарищи – отдали борьбе с царизмом свою жизнь, короткую и трагическую. Однако день, огласившийся громом взрывов на Екатерининском канале, не возвестил начала новой эры.
К заветной цели вел иной путь. Другому поколению революционеров удалось отыскать его…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Недели на две можно, Софья Григорьевна? – спросил Желябов. – Даже, пожалуй, меньше.
– С каких это пор вы задаете такие вопросы? – Она улыбалась и хмурилась.
– Ну, я ведь и начал с того, что времена меняются. Из-за моей персоны…
– Полноте, – оборвала Софья Григорьевна. – И не совестно?
Первым пришел на огонек Тригони, закадычный, еще с гимназической скамьи, приятель. Спокойный, даже несколько надменный и барственный, он давно заполучил от Софьи Григорьевны, мастерицы на прозвища, кличку «Милорд». Отец его, грек, генерал русской службы, передал Мишелю смуглый цвет лица, лукавый блеск черных глаз; матери, происходившей из старинной дворянской фамилии, он был обязан живой (но не по-южному, а по-московски) речью.
Мишель объявил, что следом за ним пожалуют к Софье Григорьевне двое неофитов 1, которых он завлек в кружок и которые жаждут услышать Желябова.
– «Неофиты»… «Жаждут»… – рассмеялся Желябов. – Все-то у тебя, Мишка, высокие словеса. «Друг Аркадий, не говори красиво».
– Да, они, брат ты мой, зубастые господа, – пригрозил Тригони. – Погляжу, как сладишь.
– Ух ты… А что такое?
– А то, что не знаю, с чем вы, друг мой, прибыли оттуда.
– Могу открыться.
Послышался звонок, пришли неофиты.
– Вот сейчас и откроешься, – сказал Тригони.
– Угу. В пределах дозволенного.
Худощавенький, уже лысеющий со лба был студентом Новороссийского университета. Сутулый и близорукий, с доброй, словно позабытой на губах улыбкой, служил учителем начального училища.
Желябов не был знаком ни со студентом, ни с учителем, но раз Мишель рекомендует, значит, стоило познакомиться.
Желябов начал без предисловий.
– Наше дело, – сказал он, – нельзя продолжать старыми, мирными средствами. Правительство обрушивается на каждого, кто желает перемен, и мы вынуждены отвечать тем же, а не уподобляться христианину, который подставляет под удары щеки. Для сторонника революции, господа, есть два выбора: либо быть раздавленным, либо нанести врагу возможно больше ударов. И ударить надо не по сатрапу, пусть зверю из зверей, как это случалось до сих пор в виде самозащиты, а по тому центру, откуда сатрапы исходят…
«Ого! – Тригони всмотрелся в Желябова. – Уезжал в ином настроении… С цареубийством был согласен, а теперь, кажется, террор возводит в принцип борьбы. Ну, натура: всегда и во всем до конца, напролом».
– Смерти ничтожного Людовика Шестнадцатого никто, господа, не искал, – говорил Желябов и, покосившись на Мишеля, прибавил: – И даже не жаждал. (Тригони усмехнулся.) Так вот, – продолжал Желябов, – а смерти его Антуанетты и подавно. Но есть то, что зовется исторической необходимостью. И если теперь, оставляя своей обязанностью прежнюю пропаганду в народе, мы решаемся на… Вы понимаете? Да, если мы решаемся, то это не личная воля одного или нескольких наших товарищей, не горячечное воображение, а властная необходимость, как и необходимость требовать политических свобод, исходя из интересов крестьянства.
– Вот, вот, – нетерпеливо вставил студент, – об этом я и хочу. Прошу верить: особых симпатий к монарху не питаю. – Он иронически приложил руку к груди. – Но царь – освободитель, и устранение его не будет понято народом. Царь, то есть, конечно, не он, не император, а воля истории вызвала отмену крепостного права, но в мужицком уме царь – освободитель…
– Ждал этого. – Желябов откинулся на стуле. – Позвольте заметить: я сам из крестьян и сам я крестьянин, однако с малых лет чувствовал к «освободителю» такую же симпатию, как и к помещику. А мать моя, мужичка, говорила: «Все они, сынок, собаки-мучители».
– Ну-с, знаете ли, – вмешался, мягко улыбаясь, учитель, – это, простите, аргумент слабый. Коллега прав. Я считаю… Мне, господа, кажется, несмотря на жестокость правительства, наш долг как народников продолжать мирную деятельность в народе! Правда победит неправду. И не силой оружия, а своей внутренней силой. Мы ищем царства правды. Как же найти его, прибегая к насилью? Ведь это значит признать бессилие правды! То, к чему нас зовут… Это что же, господа? Это, если хотите, какие-то религиозные войны, это кровь, а где кровь, там неправда.
Он вдруг покраснел и робко взглянул на Желябова.
Желябов, насупившись, забрал бороду в кулак.
– Я повторяю, пропагаторство остается. Ибо остаются идеалы. – Он вспыхнул. – Кровь? Религиозные войны? Правда-неправда? Да черт побери, мистика! Или сентиментальное воспитание сказывается? Бо-бо страшно сделать извергу! А замученных в централах не жаль? А повешенных не жаль? А вымирающую русскую детвору не жаль? Стыдно слушать, господа!
Он отбросил стул, широким шагом прошелся по комнате. Растопыренной пятерней тронул басовые клавиши рояля. И, остыв, вернулся к столу, заговорил негромко, задумчиво:
– Что делать? Таково положение вещей. Наш нравственный долг – идти в бой. Мы должны взорвать страшную бездушную машину, сломать ее, то есть, хочу сказать, мы теперь ставим задачу политическую. И мы ничего не станем навязывать народу. Будущее правительство, господа, правительство революционное, – это ликвидаторская комиссия. Народ сам создаст социалистические формы бытия. А мы должны взорвать, и мы взорвем.
Ушли они поздно.
Софья Григорьевна села к роялю.
Желябов раскачивался в кресле, смотрел в растворенное окно. За окном стекленела ночь. Желябов слушал ноктюрны.
Какая прелесть, думал он. Пожалуй, только славянская душа способна к такой удивительной гармонии, и еще удивительнее то, что посреди безобразной, свирепой жизни человек способен создавать прекрасное.
Сентябрь в Одессе был сухим, солнечным, море будто отяжелело, все было полнозвучным.
Утром Андрей приходил на берег, где под откосом притулился сарай. В сарае матросы сушили пироксилин. Высушив, тащили в портовый склад и возвращались с новой партией взрывчатого вещества. Работенка, что называется, теплая: разложи пироксилин на досках, под солнышком, а сам покуривай, гуторь, что в голову взбредет.
Андрей устраивался неподалеку от матросов.
Поначалу старшой, с черной трубочкой в зубах, сердито крутил ус:
– Вы бы, господин, того… Чай, не сено ворошим.
– Вижу, – дружелюбно соглашался Андрей. – А сами-то ишь. – Он подмигивал и указывал пальцем на трубку: старшой и его матросики курили беспрестанно, и не только на берегу, но и в сарай с огнем лазили.
– Э, – философствовал матрос, – нас не тронет. Потому мы – служба, казенное добро. А вам бы того, поберечься.
– Ну, все под богом ходим…
День, другой, третий – сладился Желябов с матросами. То да се толковали, валяясь на берегу, где сонно и сладостно шипели мелкие волны. И закусывали вместе, и водочкой потчевал их душевный такой господин.
– Слышь, дядя Никандр, – сказал однажды Желябов, одалживаясь табаком у старшого матроса, – вот ты уху, смотри, знатную варишь. А рыбу-то как? На привозе, что ли?
Предположение это показалось дяде Никандру чрезвычайно комичным. Он пустил длинный сипловатый смешок, даже слезой его прошибло. И матросы тоже рассмеялись: «На при-во-озе»! Да что они, дурни, а? Дядя Никандр доверительно потрепал Андрея по коленке, прищуриваясь, открыл: как, значит, воскресенье и все люди добрые к заутрене тянутся, он с ребятами сейчас на паровой катер, шашки туда пироксилиновые – и айда.
– А начальство? Катер-то дозволяют брать?
– Э… Оно, конечно, начальство. А ты, браток, не будь чем щи хлебают. Знаем, друг, как на свете жить. Придем это с моря – марш на офицерские фатеры, лучшую рыбку посунем куфарочке: нате, мол, пользуйтесь. Ну и начальство не перечит, полнейший, значит, молчок.
– Стало быть, все довольны? – усмехнулся Желябов. И просительно заглянул в глаза дяде Никандру. – Взял бы меня, а? Страсть люблю! И прямо это удивительно, как это вы шашками-то орудуете?
Польщенный дядя Никандр, однако, заколебался: катер военный, что ни говори, тишком делается.


























