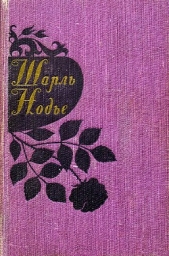Волонтер свободы (сборник)

Волонтер свободы (сборник) читать книгу онлайн
В книгу известного советского писателя входит повесть о просветителе, человеке энциклопедических знаний и интересов, участнике войны за независимость США Федоре Каржавине «Волонтер свободы» и повести об известных русских флотоводцах А. И. Бутакове и О. Е. Коцебу «На шхуне» и «Вижу берег».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Здесь, на Мойке, у Шнора приобрел Радищев печатный станок, шрифт, пресс. Все могло уместиться в одной комнате. И уместилось. В петербургских дворцах устраивали домовые церкви. В квартире близ Владимирской церкви устроилась домовая типография. В домовых церквах крестили и отпевали рабов божиих. В домовой типографии предрекалось восстание крепостных рабов. Написанное Радищевым обращали в печатное Богомолов и Пугин, таможенные надзиратели. Те самые, что навещали Герасима Кузьмича Зотова, когда он служил в таможне.
Мечта Зотова исполнилась: в Суконной линии Гостиного двора он держал книжную лавку. На газетные объявления не скупился и уже прослыл известным книгопродавцем 34.
В Суконную линию, к Зотову наведывался Каржавин нередко, как и Зотов к нему на вечерние чаепития. А вот в июньские дни они не виделись. Книгу принес Кречетов, взволнованный, можно даже сказать, потрясенный. Каржавин, вопросов не задавая, взял "Путешествие из Петербурга в Москву" и читал, читал без лампады.
На другое утро бросился в Гостиный. Летел, повторяя: "Пример твой мету обнажил", но об Америке не думал, а думал о Радищеве и еще о том, сколько заберет у Зотова — три? четыре экземпляра? И хватался за карман, цел ли кошелек, хотя прекрасно знал, что Герасим Кузьмич и в долг отпустит.
Кошелек был на месте. Зотова на месте не было.
Стуча деревяшкой, подошел сторож, горестно доложил:
— Намедни этот, который у нас, значит, приставом, возьми да и заарестуй Герасима Кузьмича. — Вздохнул. — А за что? Ни в штрафах, ни в бегах, ни в подозрениях не бывал-с. — Повторил еще горше: — Да-а, намедни…
— Когда?
— Вчерася у нас — что? — вдумчиво обратился сторож к самому себе, сам себе и ответил: — Вчерася у нас Петра и Павла. — Выставив хронологическую веху, произвел расчет: — Выходит, заарестовали двадцать шестого, а ежели нонче тридцатое, то и выходит…
Каржавина как вихрем закружило: у такого "духовника", каков Шешковский, выложит Зотов все — и о чем глаголят на Екатерининском канале, и о чем пишут.
Вечером пришел гостинодворский сторож.
— Цидуля, ваша милость, — сказал он с таким видом, будто опять взял Очаков, но притом ноги не отдал.
Зотов, оказывается, ждал Каржавина у себя дома, на Сенной. Едва Каржавин вошел, хозяин" приложив палец к губам, увлек его в угловую комнату, дверь запер, окна затворил. И прошептал молитвенно:
— Поклянитесь, никому ни звука.
Каржавин приложил руку к груди.
— В полиции находился, — сокрушенно известил Зотов. — Никитушка мытарил, обер-полицеймейстер.
— Ну, — спрбсил Каржавин, ободренный тем, что Зотов, оказывается, не в Тайную, не к Шешковскому угодил, а в полицию, к Рылееву, кавалеру телесно дородному, но умом хилому. — Ну-ну, и что же?
— Когда из темной то выпускали, расписался; о чем-де речь шла, ни под каким видом, ни-ни, а то поступят со мною наистрожайше. Потому и прошу христом-богом: вы да я. Так?
— Дважды не клянусь, — сердито буркнул Каржавин. — Ты меня зачем призвал? Разглашать али не разглашать?
Зотов тяжко вздохнул и — "разгласил".
По высочайшему ее императорского величества указу дознавались: от кого получил "Путешествие"? Известно ль ему, кто сочинитель пасквиля? много ли успел сбыть? А еще дознавались…
Каржавин слушал, словно изморосью покрывался, мерещилась казенная карета, колеса каменно-тяжкие, будто жернова для помола костей. И покатились, покатились колеса: увозили Радищева…
Он был уж в чине генеральском — действительный статский советник. Генеральство приосанивает, укрупняет жест и поступь. А г-н Шешковский пребывал в консервации. Тот же мышиный кафтанчик, застегнутый тусклыми оловянными пуговицами. Не ходил, а скользил, как жук-плавунец. Кончиком языка быстро-быстро, как ящерка, трогал сухие губы. Бледен был, изможден, будто сейчас из подземелья. А таинственной важностью веяло пуще прежнего. Захотелось хоть в чем-то ущучить его, осадить.
Ничего лучшего не подвернулось, как напомнить о Поле Джонсе: подлый-де заговор против честного человека.
— Жонес? — Степан Иваныч просыпал дробный смешок. — Пустое. Не тут заговор… — Он пальцем круг провел" как бы очерчивая Тайную экспедицию. — А там, — он пальцем через плечо ткнул, будто сквозь стены крепости Петра и Павла.
— Так уж и за-го-вор, Степан Иваныч? Матушку пужаете, и только.
За спиной г-на Шешковского стояла императрица, по краю позолоченной рамы вилось: "Сей портрет величества есть вклад верного ее пса Степана Шешковского".
— Как можно государыню пужать? — он укоризненно покачал головой.
— Всех пужаете, всех, а вот Гаврила Романович не поддался.
Шешковского передернуло.
Объясню, в чем, собственно, дело.
Был такой сибирский наместник Якоби (или Якобий, не помню). На него поступил донос — дескать, лихоимствует. В Сенате заварилась свара: одни выгораживали — невиновен; другие напирали — виновен. Шешковский по каким-то своим соображениям топил этого Якобия. Екатерина повелела сенатору Державину дать заключение. Шешковский пустился внушать Гавриле Романовичу, какое именно заключение ожидает государыня, он, Шешковский, завсегда осведомлен. А Державин взревел: слушай, ты меня со стези истины не совратишь, и не стращай, не стращай ты меня чрезвычайной к тебе доверенностью государыни… И еще, и еще, все грозней. Поперхнулся начальник Тайной, попятился.
Знаменательно: действие сенатской экспедиции встретило противодействие сенатора. И знамение: тайной полицейщине воспротивился писатель. Крепко и злобно засело это в мозгах г-на Шешковского. Его и передернуло при имени Гаврилы Романовича Державина. Вздохнул он и выдохнул: "Эх, судырь…"
Ну, думаю, сейчас он, как в пятьдесят шестом, заведет про "сложности" секретной службы. Оказалось, нет, о другом скорбел. Молвил печально:
— Мука гложет.
— Ой ли?
— А вот и не "ой ли", — приобиделся Степан Иваныч, и не то чтобы лично, а вроде бы служебно. — Как девки-то поют: "Во лесочке комарочков много уродилось". Уродились и такие — желают наставлять мужиков и мещан. К чему? — спросишь. Отвечаю: к околичностям. Каким? — спросишь. Отвечаю: осуждать утвердившееся правление. Людишки-то наклонны к буйству, а Вольтеры, поджигая своевольства, последствий не предвидят. Эвон, парижская чернь стекла бьет!
(Шешковские завсегда на "вольтеров" валят, от них, мол, все пагубы. Иди толкуй Шешковским, что сперва возникает "дело", те или иные жизненные условия, обстоятельства; возникнув, отзываются словом. Вторичны они, "вольтеры"-то, вторичны. Скажешь: Емельян Иванович Пугачев не из чернильницы взметнулся. Г-н Шешковский удивится величанию "злодея Эмельки" (через "э" произносил почему-то) именем-отчеством и ответит: наущенье было, словесное прельщение. Ты ему о подрядчике Долгове, о мужиках-челобитчиках, что приходили к Зимнему, он и этот пример первичности экономики отвергнет: "Сговор был. В челе любого возмущения — слово, судырь ты мой" 35.)
Он помолчал, потом спросил как бы без связи с предыдущим:
— Нашего анику-воина знаешь?
— Какого?
— А обера полицеймейстера.
— Кто его в здешней местности не знает.
— Вот, вот, — согласился г-н Шешковский. — А намедни Никитушка подписку ото всех домовладельцев отобрал: так и так, обязуюсь за три дня извещать полицию, когда в моем владении пожар приключится. Смеха достойно, однако… Ты вникни: за три дня, а сие…
На колокольне Петра и Павла тяжело, но не звонко и твердо, как в стужу, а по-летнему, словно в большую подушку, ударили куранты.
— Смех, судырь, упраздни, — продолжал г-н Шешковский. — На меня господь беремя возложил: загодя извещать о пожаре, имеющем быть в державе. А ты заладил: "пужаешь, пужаешь"… Меня пужают, вот что, ме-ня! — Он огладил бумаги, белевшие на алом настольном сукне. Огладил и ласково поворошил, беззвучно шевеля губам", как это делал он, читая наизусть акафист Иисусу Сладчайшему. Но вслух повторил строго: "Не я пужаю — меня пужают".