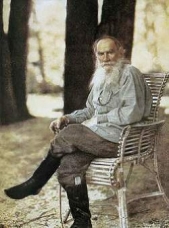Остров Буян

Остров Буян читать книгу онлайн
В том входит роман «Остров Буян», посвященный известному событию русской истории середины XVII века – восстанию угнетенного населения Пскова в 1650 году против засилия феодального строя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И Томила не позавидовал ни тому, ни другому из бывших своих друзей. Он считал, что, живя «в миру», на торгах, в толпе нуждающегося люда, он не менее служит правде и богу.
Было у него и еще заветное дело, которое он таил ото всех. Он не слагал больше виршей, забытых с юностью, но целые ночи не угасал в его домишке скудный светец, освещая листы «Летописи правды искренней» [105] , как называл Томила свои обширные тайные писания.
«От искры единой правды в сердцах загорается лютость на злых и любовь ко ближним. Дай, боже, мне дар видеть сердцем людские сердца и в них – правду твою! – так начал Томила. – Много сердец людских мне открылось, тьма убожества всюду от неразумия человеческого. Много писаний я чел премудрых и светлых, да не живет по писаниям род людской, а живет по корысти. А кто в мире первый корыстник? Не тот, кому мало дано, а кто власть и богатство держит.
Слезами и кровью писать сию книгу, чтобы жгла сердца. Пламенем огненным писать ее да правителям честь ее ежеден утре, от сна восстав и на сон грядущий, укоряя в корысти и совесть тревожа…»
Томила писал каждый день год за годом о нуждах и жизни людей, писал об их радостях и печалях, рождениях, бедах и смерти, но редко был сам доволен написанным. Чаще бывало, что, перечитав исчерченный, многократно исправленный лист, Томила сжигал его на огне светца, чтобы начать сначала.
«Не жгут сердца слова. Вода, а не кровь, не слезы!» – упрекал он себя и выводил опять в заголовке листка: «Летопись правды искренней. Лист…» Томила заглядывал в прежний столбец и ставил новую цифру.
В ту осень далеко за трехсотым столбцом он писал:
«Сколь ни ходи, сколь ни гляди, а правда одна народу. На бедного всюду разбой белым днем, и искать в татьбе не с кого: все знаем набольших татей мздоимцев, да лих, молчим! Боязлив род Адамов [106] , сукины дети!.. А кто и скажет, то втуне… Хоть я, подьячишка, столько листов написал, а пользы что? Токмо чернилу расходу да печень себе тревожу…»
Томила потушил светец и лег было спать, но мысль не спала, она продолжала искать слов для «Правды».
Томила не вытерпел, встал, в темноте нашарил огниво и снова разжег светец.
«Прости, господи, робость мою и лукавство: иных сужу, а сам первый не смею вслух обличить злотворцев», – вписал Томила и вновь погасил светец, но тревога его не угасла. Он неожиданно ощутил, что самые пламенные слова, запертые в железный сундук, подобны зернам, брошенным в землю под могильной плитой: им не вырасти, и плода их никто не пожнет.
Все мысли его о потомках, которым он светит «Искренней правдой», показались теперь нелепыми. И сына не народил еси, а про внуков печешься! – со злой насмешкой сказал он себе. – Что ты еси? Трутень пустой: жужжишь да мед пожираешь!»
Он вспомнил евангельское проклятие бесплодной смоковнице, вспомнил раба, закопавшего в землю талант, и «Летопись» – дело всей жизни его – показалась ему ненужной и мертвой.
«И печатны дворы обличающу слову тесны, – раздумывал он. – Кабы слова мои о народной нужде дошли к государю и он преклонил бы слух, то польза была бы! Да как дойдешь? Высоко до бога, а до царева сердца еще того дальше…»
Эти внезапные беспокойные мысли мучили его, не давали заснуть, и он до рассвета ворочался с боку на бок на лавке…
На рассвете он встал и, накинув сукман, позабыв надеть шапку, вышел на улицу…
Из пыточной башни ему навстречу везли в тюрьму на телеге двоих колодников, прикрытых кровавой и мокрой рогожей. Стрельцы вереницей прошли на смену ночных караулов. Звонили утренние колокола. Просыпался город для новых неправд, раздоров и мук…
У соляного подвала Федора Емельянова, на углу возле рыночной площади, стояла очередь за покупкой соли. «Сердца у обоих мохнаты, и совесть как тень вчерашняя», – подумал Томила, по привычке на ходу про себя исправляя написанное накануне про Емельянова и воеводу.
Из очереди слышались споры и крики; все сбились в кучу, теряя порядок. Томила всегда спешил на любые крики в толпу. Он знал, что крики рождаются страстью, и ему казалось, что «в крике душа человека рвется наружу, и тогда всем ее видно».
– Эй, Слепой! – закричали ему из толпы. – Томила Иваныч, иди сюда! Всем городом просим – пиши челобитье!..
В очереди стояло человек пятьдесят мужчин и женщин.
– Слышь, Томила Иваныч, пиши в Москву, к самому государю! – воскликнул хлебник Гаврила Демидов, здороваясь с ним и возбужденно тряся его руку. – Всем городом припись дадим к челобитной.
– Все имяны поставим! – крикнули из толпы.
Кто-то подтолкнул Томилу за пустовавший ларь, кто-то готовно подсунул скамью.
– Доставай бумагу! Пиши: «Смилуйся, государь великий, пожалуй, уйми лиходея-мздоимца Федора Омельянова и твоего воеводу князь Алексея!» – внятно сказал хлебник Гаврила.
– «Как мурзы татарские, городом правят», – подсказывали Томиле.
– Да не забудь написать: «Подручный того Омельянова площадной подьячий Филипка с ними вместе стоит в воровстве!» – кричали из задних рядов окружавшей Томилу толпы.
– Пиши: «Ты бы, государь, повелел их схватить и казнить их смертью…»
Но Томила не слушал подсказок. Перед его глазами столбец за столбцом развертывалась «Правда искренняя».
Особое вдохновение рождалось в его душе от сознания того, что он писал не «в сундук», а к самому царю, в которого верил Томила, как верил и весь народ.
Все ночные сердечные муки, рожденные от сознания бесплодности собственных мыслей, вырвались из души. Писавшая рука дрожала от волнения, и ему казалось, что вот-вот от пламени слов задымится бумага и вспыхнет в руках перо.
Пока он писал, вокруг собралось еще человек полтораста прохожих. Узнав, что тут составляется челобитье к царю на Емельянова, они задержались, бросив свои дела.
– Читай, чтобы ведали все, – сказал хлебник. И Томила, вскочив на ларь, звучным голосом, как молитву, стал читать вслух. Толпа застыла, словно захлебнулась молчанием, боясь проронить слово. Когда Томила кончил читать, общий вздох заключил его чтение.
– Аминь! – в тишине произнес поп Яков.
– Приписи ставьте. Кто первый? – вызвал Гаврила.