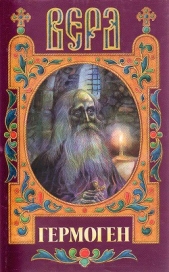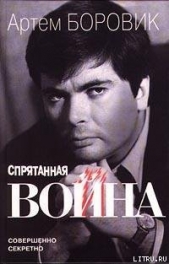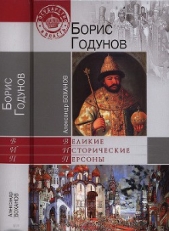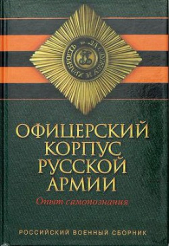Когда я вернусь,
Не как Галич – с парижской кассеты,
Хоть седой, но живой
Из таможни тебе дозвонюсь.
Это будет весной.
А пока – пусть вопрос без ответа:
А куда я вернусь?
Кину в шкаф камуфляж,
Созову на девятое мая
Всех, меня не забывших,
А потом, захмелев, улыбнусь,
Может, даже оттаю,
Оживши;
Сходим с дочкой в «Пассаж»…
Но куда я вернусь?
В суету вороватых киосков?
Чем ты встретишь, Россия?
Ни «прости», ни «спасибо» не ждя,
Над собой посмеюсь,
Отмахнусь от вопросов
Бессильно
Под счастливые слезы дождя.
Душанбе, апрель 1994 г.
Придешь?
Метро. Свисающая челка. Глаза.
Да? Нет?
Не мигай.
Посмотрим друг на друга.
Экспромтом.
Ты уснешь, разметавшись беспечно.
Я приду, растревожу твой сон.
Может быть, и последнею встречей,
Ждущей нас в лабиринте времен.
…Не хватило времени на счастье.
Когда оно приходило,
время ускоряло бег.
В распадающийся на листочки блокнот
все реже заносим новые имена.
И поверх рабочего телефона
все чаще – день памяти…
Мы плохо живем, плохо пишем…
В непоэтическом словаре нашего поколения
вместе с химическими карандашами
и пони в ЦПКиО
останутся
зимы пустых холодильников,
телевизионная хроника – «Время»
сквозь «Чуть помедленнее, кони!»
на «Астрах» и «Кометах»
наших 70-х.
Ни одна русская сказка
не обходилась без обращения к Востоку.
Нам предстояло уцелеть
вместо некрещеных мальчиков Афгана,
теперь – Чечни.
Война учит любви.
Помнишь мою мольбу?
Любая кончится дорога,
Дорогой вечною не став…
На посошок мне, ради бога,
Глоток земной любви оставь.
С последними аккордами «Лебединого озера»
погас черно-белый экран.
Мы оказались такими разными, даже разноцветными:
что общего между лиловой тюбетейкой душанбинского дервиша
и рыжим треухом питерского бомжа?
Ступеньки подземных переходов?
А по вокзалам слово «беженец»,
Как прежде было – «кипяток»…
И приглашенья путешествовать:
Одним – в Мадрид, другим – в Моздок?
Или угнать БТР?
Чтобы отомстить за себя, за Союз,
за то, что вместо твоих ресниц – ворс подушки?
Так банально – не слезы, а снег.
Каждый туго натянут нерв.
Разбивают гипсовый герб:
Верьте нам-м-м-м! Нервный смех.
В привычном «Держитесь за поручень»
слышится эхо шестнадцатого года: «Держитесь, поручик!»
Мы – выросшие с неподцензурной гитарой,
не боявшиеся ни духов у кандагарского элеватора,
ни жены, ни КГБ…
Нам душно и тесно. «Тяга прочь»? Опять на войну?
И огненной памирской пляской
празднует День Красной армии
бородатый исламский боевик:
Ах, Одесса, жемчужина у моря…
Шелушащаяся позолота сталинского бюста
в заброшенном душанбинском сквере
посреди вывороченного Таджикистана…
Любовь – это память,
запрятанная в ладони и губы.
Наш век – короток и ненастен, как февраль.
Мы уйдем незаметно,
стараясь не разбудить соседей,
длинным больничным коридором,
где давно перегорела лампочка.
Чтобы, как скальные столбы кайнозоя,
стать частью жизни вселенной.
Чтобы
оставить после себя мир нашей совести, мук;
то, что наши взрослеющие девчонки
расскажут своим будущим мальчишкам.
Я не приду.
Ведь «встреча» – похоже на сербское слово «счастье».
…Так банально: не слезы, а снег…
Расстанемся любя.
Коль живы – под поземку века
Из заунывной тишины,
Где ни греха, ни слез, ни смеха,
Сквозь вас не смотрим со стены,
Примите и не осуждайте
Навзрыд пришедших в декабре
Забытых чувств. И млейте, тайте.
А лучше – смейтесь и рыдайте.
Автограф мой в календаре
Пусть скрепит силою закона
Прикосновения испуг.
Семь цифр – номер телефона,
Как бисер – номер телефона,
Летящий номер телефона.
Тепло и живость губ и рук.
Коль живы и в желаньях злые…
…вот только ходики идут…
Мы все же, все же молодые:
Нам Бог добавил пять минут.
Первое, что схватывает взгляд, это движение, штрих…
Краски воссоздают лица и чувства.
Красный способен донести
порыв и отчаяние…
В легком красном плаще, чуть сутулясь,
ты уходишь по удаляющемуся перрону, молча обходя лужи,
не оглядываясь. Идешь на шпильках, навстречу осени
и зиме.
Запахнув шинель, сквозь поземку Александровского сада
я иду по гранитным плитам вымерзшего розария:
прочь от отвернувшегося ангела,
под прицелом бездушной камеры,
сканирующей лица живые и каменные.
Импрессионизм памяти —
в черно-белой графике штрих-ценников.
Из предреволюционной хроники спешат
неуслышанные афганцы брусиловского прорыва
в шинелях с капюшонами-башлыками
мимо светящихся опарышей киосков,
торгующих на керенки-зайчики.
Доколь?
Снег засвеченной штриховкой скользит по щекам.
Хроника замедляется до пульсирования немых картин.
На подводах и санях возят синий торф…
Это из прошлого? Или из будущего?
В просторном после снесенных сараев дворе
созывает хозяек точильщик —
одноногий еще с испанской.
Беса ме, беса ме мучо…
Первый в сумрачной коммуналке телевизор,
серебряный и торжественный, как полет Гагарина.
Я перелезаю через кузов грузовика,
перегородившего улицу.
Первомайская демонстрация.
Люди с красными повязками следят за стройностью колонн.
Белым по красному: «Пусть всегда будет солнце!»
Ура.
Камера наплывает на черную, африканского камня, плиту
с серебряными титрами:
Капитан Антонио Дега-Дега, инструктор Осипов…
Год рождения – пятидесятый,
через дефис – фиолетовая зелень тропиков.
Планета сделала полный оборот.
Будто и не было розового тумана…
Беса ме, беса ме мучо…
Уже не на экране режут пальцы четыре камешка:
табачно-желтый, медсанбатовски-белый, черный, как гарь,
прозрачный, как третий тост.
На горячем и витиеватом афганском ковре —
холодный арбуз.
Красный.
Как флаг на последнем уазике рижского ОМОНа.
Не спрашивайте, какой мы национальности, веры какой…
Поколение, живущее несбывшимися надеждами…
Замедленная съемка…
Запомните наши лица.
У колонны на площади – разноцветные стайки людей.
Среди них – ты.
В чем-то легком и красном.
Ты меня видишь, торопишься навстречу.
Накинув на плечи весну.
Сейчас ты спустишься в подземный переход.
Я жду. Тебя нет.
Хруст пустого целлофана из-под цветов…
Пушка на Петропавловке бьет двенадцать.
Стоп-кадр.
Помолчим о нас…
1995 г.