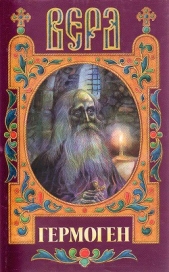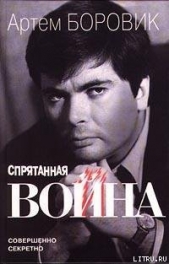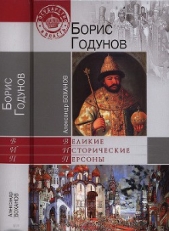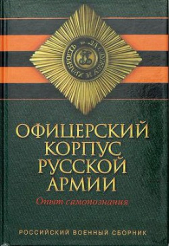Запомните нас живыми

Запомните нас живыми читать книгу онлайн
Перед нами – публицистические и поэтические откровения – оперативная аналитика и зарисовки с натуры… Они нам нужны, чтобы с сегодняшним опытом осмыслить наше прошлое. И еще. Они интересны судьбой автора – военного интеллигента, участника событий в семи горячих точках – Африке и Афганистане, Таджикистане и на Балканах, Чечне и Абхазии… В 2004 году Борис Подопригора стал одним из авторов телесериала «Честь имею!..», удостоенного высших телевизионной и кинематографической премий страны – «ТЭФИ» и «Золотой орел». Написанный им в соавторстве с Андреем Константиновым роман «Если кто меня слышит. Легенда крепости Бадабер» критика назвала литературным памятником воинам-афганцам. Диапазон служения ныне советника главы Республики Карелия Бориса Александровича Подопригоры охватывает экспертное сообщество Госдумы, университетскую кафедру и журналистику. В его офицерском планшете вместе с тремя вузовскими дипломами и тремя орденскими книжками, шестью книгами и киносценариями, многими сертификатами научных и общественных отличий особое место занимают творческие блокноты, посвященные драматическим событиям последних 30 лет. Они и стали основой этой книги.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Был ли он преступником? С первых выстрелов в Краине в 91-м до косовского позора 99-го он, конечно же, отдавал приказы. Вряд ли в них записано: этих повесить, тех расстрелять. Не все, кто брался за оружие, стали преступниками. Но война – всегда варварство. Гражданская – вдвойне. В первый день моего приезда в боснийскую Тузлу старик-мусульманин, поливавший из шланга газон, остановил взгляд на моем шевроне с российским флагом. Потом презрительно сплюнул, смачно выругавшись. Еще через неделю-другую мы разговорились. До 92-го он жил в сербской части Боснии – в Биелине. Преподавал русский язык. В класс зашли несколько ополченцев во главе с местным паханом по кличке Аркан. На их нарукавных повязках красовались такие же по набору цветов, только по-сербски перевернутые, триколоры. Предложили прочесть «Отче наш». Кто отказался – значит, мусульмане. Расстреляли полкласса, назидательно написав на доске: «Мы держимо речь», то есть «хозяева здесь – мы». В Биелине я встретил другого деда – серба. Эту школьную историю он тоже знал. Более того, после рюмки 60-градусной ракии признался: аркановцы пошли в школу из его двора. Во дворе в большом котле такие же ополченцы, только с зелеными повязками на лбу сварили его трехлетнюю дщирку. Дочку. Бросив в котел несколько луковиц. Для приправы. И дщирка, и полкласса вошли в мартиролог из 270 тысяч говоривших на одном языке. «Деду» оказалось 30 лет. А русскому языку его учил мой тузлинский собеседник. Нужно ли было Милошевичу отдавать преступные приказы?
Торговался ли Милошевич с западниками или по-сербски упрямо не поступался принципами? Конечно, торговался и поступался. Тем более когда лишь президентская должность и статус международного гаранта до поры спасали его от трибунала. Но если трибунал его все-таки настиг, значит, «продал» он им немного. А ведь стоило ему чувственно поблагодарить западников за наведение на его родине демократического порядка – так сделали хорват Туджман и босниец-мусульманин Изетбегович, – а еще лучше, предъяви он Москве какой-нибудь счет за оккупацию, он бы и сегодня назывался «председником», гарантом и вообще слыл примерным борцом с тоталитаризмом. Возведенный в ранг изгоя, он метался и между собственными политическими флангами – от проамериканца Джинджича до националиста Шешеля, называя их своей левой и правой руками. Своим военным предлагал дружить с Москвой, дипломатам – с Западом. Чтобы понравиться демократам, пытался закрыть усыпальницу «диктатора» Тито, но товарищи по социалистической партии его поправили. Харизмы маршала у майора запаса не было. Политический титан редко готовит преемников.
Как к нему относились сами сербы? Сначала на него возлагали надежды. Как в Союзе на Горбачева. После прихода к власти в 1987 году с ним себя он и сравнивал. «Наш Горбачев» – газетное клише того времени. Потом – как к искреннему неудачнику, которому вот-вот повезет. О нем говорили: «Слобо – наша вечна трудность». «Трудность» по-сербски – «беременность». После косовской трагедии до ареста – с элементами презрения: много мельтешит, но всегда проигрывает. Иронизировали про раскладушку, которую пора ставить у надгробной плиты маршала Тито. После ареста – снова с сочувствием. Но оно не слишком распространялось на его сверхделовую жену – Миру – лидера «левицы» – левой партии, ничем не отличающейся от социалистической. Об их финансовых злоупотреблениях говорили всегда, часто по слухам, но больше склонны были обвинять в них Миру. Как бы там ни было, внешних признаков роскошной жизни не допускал. В течение года ходил в одном и том же костюме, принародно купленном в белградском универмаге. Помпезных выездов с кавалькадой лимузинов и перекрытием улиц, в отличие от Тито, не любил.
Был ли он другом Москвы? Закадычным другом не был. Но к России относился по крайней мере со вниманием, нередко сравнивая себя с нашими вождями. Из нынешней политической элиты выделял Примакова: напрямую обращался к Кремлю с просьбой о его посредничестве в косовском кризисе. Почти брезгливо относился к Козыреву. Прилично говорил по-русски. Его мать – Станислава – некоторое время преподавала русский язык. Часто приводил примеры из советской истории, которую знал неплохо. Встретившись с российским военным атташе по фамилии Шепилов, в шутку заметил: «и примкнувший к ним?» (так в конце 1950-х годов именовался тогдашний министр иностранных дел СССР Шепилов, «примкнувший» к антипартийной группе Маленкова – Молотова). Любил советские фильмы, на некоторые из них, например «Белое солнце пустыни», под псевдонимом писал рецензии. Следил за культурной жизнью России. Завершая аудиенцию с российским посланником, неожиданно спросил: «А что, и Большой театр развалили?» Его отношение к Москве заметно испортилось в 1995 году. Тогда стараниями российского посла в Хорватии загребский лидер Туджман получил орден Отечественной войны. За полтора месяца пребывания в плену у партизан Тито. И еще за то, что, будучи адмиралом, одним из первых среди югославского генералитета изменил присяге.
Расставшись с имиджем Горбачева, он попытался стать таким же ниспровергателем, как Ельцин: тогда-то и закрывал мавзолей Тито. Подражая Ельцину, пытался быть надпартийным «слугой народа». Потом вернулся к руководству страной с партийной трибуны. Сравнивал себя с Хрущевым. Несколько кокетничая, говорил, что, став преемником мирового лидера, теперь лучше понимает и Сталина, и Тито, и Хрущева. Кстати, находясь в Москве, возможно, единственный из действовавших лидеров страны, посетил могилу Никиты Сергеевича на Новодевичьем…
Он не был диктатором, хотя его эпоха требовала жесткости. Он не был преступником, хотя и не пресек варварства, творившегося от его имени. Он был не более упрям, чем большинство сербов. И амбициозен как партийный секретарь, велением времени ставший лидером 22-миллионной Югославии. Страны, рассыпавшейся без железной руки маршала. В этом он его антипод. В этом же – подлинная югославская трагедия, пополнившаяся еще одной жертвой.
С именем, начинающимся на «авось»
А ведь авось – самая испытанная из русских надежд. В остальном же? Критик скажет свое. Летописец – тоже. Есть что сказать и просто современнику. Вознесенский вознесся несением воза. Его воз – рифмование – уже поэтому публичное осмысление времени, «перепутанного» от Мандельштама до Бродского. Поэт тоталитарной эпохи дерзновенных талантов, он по крайней мере казался свободным в стране, не знавшей, что это такое. В России смысл бытия задает отсутствие крайностей. Например, свободы и блокпостов. Вознесенский поддерживал власть, демонстрируя потенциал ее испытателей.
«Государя злым оком» она удостоила его больше любого из русских поэтов, оставшихся после этого живым. Благодаря и вопреки он собирал стадионы, куда более многолюдные и «добровольные», чем демонстрации. Его знали по крайней мере по шарфику вместо галстука. И держали под микроскопом молвы. Ан ничего непростительного не нашли. Пригодился, где родился. Не бронзовел. Со сцены читал стихи, а не нотации. «И ни у кого не воровал / И ни на кого не доносил»: о Евтушенко, Рож-рож-дественском и других говорил либо хорошо, либо лаконично. Барабанщиком на всю планету был лишь в песне. Гламурной, как и про миллион алых роз, но не пошлой. Впрочем, не ему принадлежит пафосно-бескомпромиссное: «Поэт в России больш, чем поэт».
В политику не играл. Но… Промозглой зимой 1981-го американских VIPов демонстративно сопровождали в «Ленком» охранники посольства. В футболках US marines и трусах, выспренне подтверждавших конфронтационное спартанство. После прощальной «Аллилуйи» повторная нарочитость морпехов стала казаться публицистическим абсурдом. Пусть на двусложные – как «авось» – две секунды до открытой дверцы лимузина. Русско-американская надежда на «Авось» сделала больше нобелевских лауреатов премии мира: «И окажется так минимальным / наше непониманье с тобою / перед будущим непониманьем двух живых с пустотой неживою».