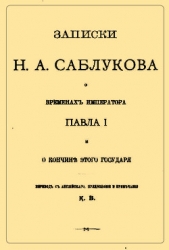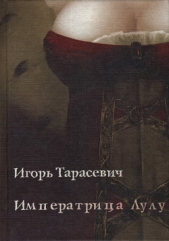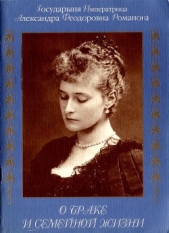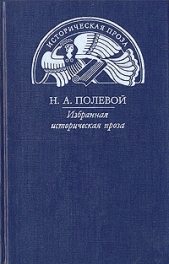Николай I

Николай I читать книгу онлайн
Царствование императора Николая Павловича современники оценивали по-разному. Для одних это была блестящая эпоха русских побед на поле брани (Кавказ, усмирение Польши и Венгрии), идиллии «дворянских гнёзд». Для других – время «позорного рабства», «жестокой тирании», закономерно завершившееся поражением в Крымской войне. Так или иначе, это был сложный период русской истории, звучащий в нас не только эхом «кандального звона», но и отголосками «золотого века» нашей литературы. Оттуда же остались нам в наследство нестихающие споры западников и славянофилов… Там, в недрах этой «оцепеневшей» николаевской России, зазвучали гудки первых паровозов, там выходила на путь осуществления идея «крестьянского освобождения». Там рождалась новая Россия.
В книгу вошли произведения:
Д. С. Мережковский, «ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ДЕКАБРЯ»
К. А. Большаков, «ЦАРЬ И ПОРУЧИК»
Р. Б. Гуль, «СКИФ В ЕВРОПЕ»
В. А. Соснора, «НИКОЛАЙ».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– А как стреляли в графа Милорадовича, видели?
– Видел.
– Кто стрелял?
– Этого не видел.
– Жаль. Могли бы спасти невинного.
– Эх, господа, вы всё не то… Непременно нужно?
– Непременно.
– Ну, дайте на ушко…
Бенкендорф наклонился, и Одоевский шепнул ему на ухо.
– А потом, когда расстреляли, – заговорил опять громко, всё так же спокойно и весело, – пошёл через Неву на Васильевский, а оттуда на Мойку, к сочинителю Жандру [81]. Старуха Жандриха, – очень любит меня, – увидела, завыла: «Бегите!» Кинула денег. Я пуще потерял голову. Пошёл куда глаза глядят. Хотел скрыться под землю, под лёд. Люди заглядывали в глаза, как вороны в глаза умирающего. Ночевал на Канаве под мостом. В прорубь попал, тонул, замерзал. Смерть уже чувствовал. Вылез, умалишённый. Утром опять пошёл. Два дня ходил Бог знает где. В Катерингофе был, в Красном. Тулуп купил, шапку; мужиком оделся. Вернулся в Петербург. К дяде Васе Ланскому, министру. Обещал спрятать, а сам поехал донести в полицию. Ну, думаю, плохо. Вот к вам и явился…
– Вы не сами явились, вас привезли, – поправил Башуцкий.
– Привезли? Не помню. Сам хотел. В России не уйдёшь. Я на себе испытал. Русский человек храбр, как шпага, твёрд, как кремень, пока в душе Бог и царь, а без них – тряпка, подлец. Вот как я сейчас. Ведь я подлец, ваше превосходительство, а? – вдруг обернулся к Бенкендорфу и посмотрел ему прямо в лицо.
– Почему же? Напротив, благородный человек: заблуждались и раскаялись.
– Неправда! По глазам вижу, что неправда. Говорите: «благородный», а думаете: «подлец». Ну, да ведь и вы, господа, – медленно обвёл всех глазами, и лицо его побледнело, исказилось, – подлеца слушаете! Хороши тоже! Я с ума схожу, а вы слушаете, пользуетесь! Господи! Господи! Что вы со мною делаете! Палачи! Палачи! Мучители! Будьте вы прокляты!
Голицын опять отшатнулся, закрыл глаза, заткнул уши, чтобы не видеть, не слышать. Но ненадолго, снова любопытство потянуло жадное: раздвинул занавесь и выглянул, прислушался.
Одоевский лежал молча, не двигаясь, с закрытыми глазами, как в беспамятстве. Потом открыл их и опять заговорил быстро-быстро и невнятно, как в бреду:
– Ну что ж, пусть! Все подлецы, и все благородные. Невинные, несчастные. Звери и ангелы вместе. Падшие ангелы, восстающие. Надо только понять. «Премудрая благость над миром царствует. Es herrscht eine allweise Gute uber die Welt [82]». Это по-немецки, у Шеллинга, а по-русски: «Пречистой Матери Покров…» А вот и Она, видите?..
Прямо против него, на стене, висела копия «Сикстинской мадонны» Рафаэля. Голицын взглянул на неё и вдруг вспомнил, на кого похожи были глаза Мариньки, когда, арестованный, сходил он по лестнице и, нагнувшись через перила, она посмотрела на него в последний раз.
– Какие глаза! – продолжал Одоевский, глядя на Мадонну с умилением восторженным. – Как это в русских песнях поётся: «Мать сыра земля»? Россия – Мать. Всех Скорбящих Матерь. Но об этом нельзя… Ваше превосходительство, уж вы на меня не сердитесь. Я всё скажу. Всё узнаете. Вот только отдохну – и опять. Каховский стрелял; Оболенский штыком лошадь колол. А Кюхельбекер в великого князя целился, да пистолет не выстрелил. Ну, ничего, ничего, запишите, а то забудете. Ну, что ещё?.. А впрочем, вздор! Опять не то… А вот, когда замерзал на Канаве, под мостом, – то самое было, то самое: чашечки золотые, зелёные; детьми молоко из них пили в деревне, летом, у маменьки, на антресолях с полукруглыми окнами, прямо в рощу берёзовую; золотые, зелёные, как солнце сквозь лист весенний, берёзовый. И так хорошо! Вот и сейчас… Только не сердитесь, милые, милые, хорошие. Не надо сердиться, и всё хорошо будет. Простим друг друга, возлюбим друг друга! Возьмёмтесь за руки и будем петь, плясать, как дети, как ангелы Божьи в раю, в златом веке Астреином…
Говорил всё тише, тише и наконец совсем затих, закрыл глаза, как будто заснул или впал в забытьё. Улыбался во сне, и слёзы по лицу струились, тихие. Бенкендорф поцеловал его в голову, может быть, с непритворной нежностью.
А на другом конце залы такая же тяжёлая, штофная занавесь, как та, за которой Голицын подслушивал, вдруг заколебалась, раздвинулась, и вошёл государь.
Все окружили его, заговорили вполголоса, чтобы не разбудить больного. Только отдельные слова долетали до Голицына.
– Как бы горячка не сделалась…
– Кровь пустить, лёд на голову…
– Показания важные…
– Да ведь бред, слова умалишённого, – не оговорил бы кого понапрасну…
– Ничего, разберём…
Голицын не помнил, как вернулся на прежнее место, в большой зале, за ширмами. Долго сидел в оцепенении бесчувственном.
Вдруг увидел Левашова. Сидя за ломберным столиком, он разбирал бумаги. Голицын вскочил и бросился к нему так внезапно, что Левашов вздрогнул, обернулся и тоже вскочил.
– Что такое? Что с вами, Голицын?
– Ведите меня к государю!
– Государь занят. Если что сказать имеете, можете мне.
– Нет, к государю! Сейчас же, сейчас же, немедленно!
– Да что вы, сударь, кричите? С ума вы сошли?
– С ума сошёл! С ума сошёл! Одного уже свели с ума, а вот и другой! В России есть пытка! Одного запытали – ну, так и другого! Вместе обоих! Жилы выматывайте, пятки поджаривайте! О, подлецы, подлецы, палачи, истязатели! – закричал Голицын в бешенстве, затопал ногами и поднял кулаки.
Левашов схватил его за руки, но он вырвался, оттолкнул его и побежал, сам не зная куда и зачем. Мелькала мысль: убить Зверя, а если не убить, то обругать, избить, плюнуть в лицо.
– Держи! – крикнул Левашов двум часовым, всё ещё стоявшим у двери, на другом конце залы, как два истукана.
Те встрепенулись, ожили, поняли, бросились ловить Голицына.
– Микулин! Микулин! – кричал Левашов с таким испуганным видом, как будто трёх человек было мало, чтобы справиться с одним.
– Здесь, ваше превосходительство! – вырос как из-под земли дежурный по караулу полковник Микулин с пятью молодцами ражими, кавалергардами в медных касках и панцирях: на одного безоружного – целое воинство. Где-то вдали промелькнуло лицо государя, но тотчас же спряталось.
Окружили, стеснили, поймали. Кто-то, обняв Голицына сзади, сдавил его так, что он почти задохся; кто-то схватил за горло; кто-то бил по лицу. Но он всё ещё не сдавался, боролся отчаянно, с тою удесятерённою силою, которую даёт бешенство.
Вдруг откуда-то издали послышался крик. Голицын узнал голос Одоевского. Ни тогда, ни потом не мог понять, что это было: очнулся ли больной от беспамятства и, услышав шум свалки, перепугался; или делали ему кровопускание, а он вообразил, что пытают, режут, – но крик был ужасный. И Голицын ответил на него таким же криком. Если бы кто-нибудь со стороны услышал, то подумал бы, что здесь и вправду застенок или дом сумасшедших.
– Верёвок! Верёвок! Вяжите! Да чего он орёт, каналья! Заткните ему глотку!
Голицын почувствовал, что ему затыкают рот платком, вяжут руки, ноги, подымают, несут.
Покорился, затих, закрыл глаза. «Ну, теперь ладно. Хорошо, всё хорошо», – сказал чей-то голос.
Медленно проплыло белое в красном тумане лицо Зверя, и он лишился чувств.