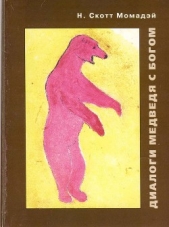Грустный шут
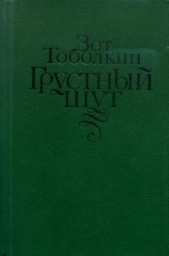
Грустный шут читать книгу онлайн
В новом романе тюменский писатель Зот Тоболкин знакомит нас с Сибирью начала XVIII столетия, когда была она не столько кладовой несметных природных богатств, сколько местом ссылок для опальных граждан России. Главные герои романа — люди отважные в помыслах своих и стойкие к превратностям судьбы в поисках свободы и счастья.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Погоди, Кеша! — кричал Барма. — Забыл, что ли: на лошади-то верхом ездят.
— Садись, прокачу, — Бондарь остановился, слегка поправил живой груз на плечах.
— Выдержишь? — Барма сделал вид, что хочет запрыгнуть на вершну.
— А хоть и двое сядете — не сорву с пупа.
— Медведище! Ну медведь! — восторгался Барма огромной силищей Бондаря. Тот не спеша ссадил лошадь. Она фыркнула, обнюхав зеленую травку, принялась жевать.
— Ест, — восторженно прошептал Кирша. — Слава Миколе Мирликийскому, ест!
Немой радостно хлопал в ладоши, а из кустов за ними подсматривал медведь. Бока его подвело, шерсть, еще не выветрившаяся после лежки, клочилась и дурно пахла.
«Скоро ль они уйдут? — ждал зверь, сердито сопя. — Сами-то небось сыты. И в ум не падет, что кто-то рядом голоден».
— Пойдем, Гоня, мужикам поможем. Соловая теперь и без нас оклемается…
Но едва отошли за куст боярышника, Кирша оглянулся и увидал бурую, метнувшуюся к лошади тушу.
— Гонька! Там это… там… — хватая себя за вспухшее от волнения горло, пробормотал Кирша.
Немой, услыхав возню, хруп костей, хрип, опрометью кинулся на выручку.
— Стой! — закричал ему Кирша. — Порве-от!
Мальчик не слышал. Тогда и ямщик кинулся следом, догнал, толкнул немого назад. Зверь, почуяв их, поднял голову, грозно зарычал. «Вот я вам! — показал весь его вид. — Ну-ка прочь!» Но люди не уходили. Немой рвался к лошади, кричал, плакал. Соловая, которую только что кормили его руки, была мертва. Она лежала на боку, прижав голову к передним копытам. Густая белая грива была в крови.
Кирша оплошал и упустил мальчугана. Вывернувшись из-под его рук, Гонька кинулся на медведя. Зверь попятился, изумившись дерзости этого слабого существа. Всего ж более — рассердился: пир долгожданный прервали в самом начале. Надо же, одна из первых после спячки охот окончилась так удачно, а кто-то смеет мешать ему насыщаться теплым парным мясом, кровью, которая толчками вытекает из вен, дымит, дразнит нюх.
— Уррр! — Зверь прыгнул через круп лошади, метнулся к Гоньке, но Кирша прикрыл его собой. Теперь он ничего не боялся и мог бы из-за парнишки пойти на сотню разъяренных зверей. Наверно, и медведь это почувствовал и в двух шагах от человека остановился. В его сиплом грозном рыке слышалась обида. Кинувшись на Киршу, накрыл его лапой.
От реки, слыша рык звериный и человеческие вопли, бежали Барма, Бондарь и Митя. Медведь струсил и, косолапя, дернул в кусты. Бондарь кинул в него топором, но не достал.
Барма склонился над Киршей. Тело ямщика было в ужасных, глубоких ранах. Обмыв их, Барма прикрыл прошлогодним подорожником. Делал это из одного человеколюбия. Уж ни ямщик, ни Соловая не нуждались в его помощи.
Подозвав знаком Митю, Кирша прошептал:
— Машу увижу — что сказать?
— Скажи… — начал Митя, но Кирша не дождался ответа: начал бредить. Умирал тихо и тяжко. Как жил. Лишь перед самой кончиной пришел в сознание.
…А в это время, в это самое время ожеребилась кобыла новосела Ивана Пиканова. Мокрого, карего жеребенка, со звездочкой во лбу, хозяин принес в избу.
— Резвый конь будет! — похвалил новорожденного Гаврила Степанович. — Обмыть надо.
Настрогали мороженой стерляди к браге, сели за стол. Жеребенок уже после третьей поднялся на неокрепшие ножки, защелкал копытцами по полу и, тоненько, струнно заржав, пустил на половик струю.
— И он нас обмыл маленько, — наливая по четвертой, ухмыльнулся Пикан.
— То добрая примета, — хмыкнул Тюхин. — Верно говорю: до-обрая!
Ночь весенняя, жуткая. Ворочаясь в берегах, о чем-то вздыхает кормилец Тобол, и брат его больший — Иртыш — тоже вздыхает. Сейчас вот соединятся в объятиях братских, побегут по одному руслу на север, где много всяких див, где и люди, сказывают, о двух головах, а сами сплошь волосаты и питаются одной человечиной.
Да реки ли удивлять? Это человек удивляется, пока не выжгут, не выкорчуют в нем детское удивление. Тогда уж не человек он, столб соляной. Живет одной лишь видимой оболочкой. Душа невидимая в слезах испаряется…
Фешина душа была не растрачена, болела по ночам, томилась. Уйти бы к милому, да муж дома. Только и остаются дни, когда он уезжает по таможенным делам. Хлопотлива служба его, зато доходна. Тут важно не пропустить мимо государевой казны какую малость: часть — казне, часть — начальству, ну и себя обижать грех. Надо и дом содержать, в доме две молодые бабы: сестра да супруга. Уезжая, наказывает Семен дворовому человеку Пахому следить за ними, учитывать, кто приходит. За это деньги платит особо. Был слух, построил себе Пахом домишко в Заречье. И живностью обзавелся. Значит, и врет и ворует. Верно, и от баб получает подарки.
В этот раз, уезжая, Семен приставил к женщинам Янку-цыгана. Тот верен, как пес, за деньги не продастся. Украл цыган коня у раскольника: хотели в проруби утопить. «Сам накажу… судом государевым», — обещал Семен и, вместо наказания, определил цыгана к себе. Янко жил в малухе вместе с Пахомом и кухаркой. Плевался, когда Пахом лез на полати и начинал там тискать кухарку.
— А я на тебя плюю, ефиопская морда, — задергивая занавеску, посмеивался Пахом.
Разгневанный Янко выходил во двор, проверял на воротах запоры и долго вслушивался в голоса в доме; за стеною жила самая желанная женщина на свете, самая недоступная, белая, сдобная. Схватить бы ее и увезти в степь. В степи кто отыщет? Только ветер там, он не скажет. Да нельзя увозить — дал слово хозяину. Слово надо держать.
Ходит цыган, мается. В горнице мается Марья Минеевна. Знает: зорче коршуна следит за ней сторож. Вот уж пушка ударила с Троицкого мыса. Из кремля выезжают конные драгуны. И жутко, жутко во тьме. Жутко и одиноко. Хоть бы Феша зашла.
— Феша! Фе-еш! — зовет Минеевна, сама в себя вслушивается: затяжелела. Ежели брат о том узнает — убьет. Собирался выдать замуж за оружейного старшину, да порченую-то кто возьмет? Первый муж хворый попался. И года не пожил — занемог, помер. Легко, весело жилось вдове, пока не оплошала. Теперь вот к Агафье бежать надо: пускай плод вытравляет. Сама себе большая была бы, так разве решилась бы на это? Хочется ребеночка ласкать, грудью кормить хочется. Кто позволит — не в браке нажит. А Гаврюша не шьет, не порет. Да что он может? Своя кочерга, законная, вокруг шеи обвязана. Брось ее — по всему городу пойдут пересуды. И жалостлив больно: мол, столько лет с Егоровной прожил. Жалеет воблу свою. Минеевну не жалеет.
«Пойду назло ему к знахарке, возьму отравы! Идти надо, пока не поздно, — в который раз велит себе Минеевна, но цыган не спускает с нее внимательных глаз. — У, нехристь!»
— Фешуня! — снова зовет она.
— Чего тебе? — отзывается наконец та.
Все опостылело. Грех, грех! Вместе со сношенькой грешили — каяться одной приходится. Ей что, порожняя ходит. А в случае чего обрадует Семена: твой, мол, тот и уши распустит. Поверит, да еще и радехонек будет. Мужики, они все лопоухие. Любого вокруг пальца обвести можно. «А что же я? Цыган-то вон как облизывается на меня!» Марья Минеевна, час или два недвижно сидевшая на лежанке, рывком поднялась и побежала к Феше.
— Придумала я! Ох как хитро придумала! — тиская и кружа сноху по комнате, кричала она.
— Что придумала-то? — сдержанно улыбнулась Феша. Ей тоже край нужно вырваться в город. Иванушка сидит, наверно, один в нетопленной избе, не накормлен, не угоен. Бедный, бедный! Отчего сводит судьба не с теми, кто сердцу дорог? И немолод он, ровесник Семену, а как сладко с ним, как радостно! И у него сразу лицо оживает. А колокольный бас мягчеет, гладит бархатно, еще больше синеют глубокие сумрачные глаза. Взглянуть бы в них разок… нет, всегда, до последнего часу смотреться. Ванюшка, сокол!
— Что придумала-то? Сказывай!
— По рыжему соскучилась? Не скажу. Терпи до завтра. — И не сказала, ушла и сама своей тайной проказе смеялась.
Грохнул барабан в конце улицы. Треск его встряхнул Фешу. Минеевна уж спала, третий сон видела. Перекликнулись сторожа. Процокал конный патруль. Спи спокойно, сибирский град стольный! Враг тебя врасплох не застанет. Сторожа, драгуны, казаки, да и прочий люд — только гаркни! — в один миг под ружье станут. Стрелять-то каждый умеет: не зря ж оружейная слобода в Тобольске. Не для одних служивых ладят ружья.