Осажденная Варшава
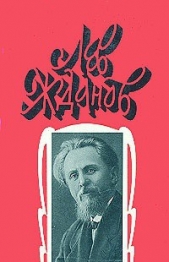
Осажденная Варшава читать книгу онлайн
Среди исторических романистов начала XIX века не было имени популярней, чем Лев Жданов (1864–1951). Большинство его книг посвящено малоизвестным страницам истории России. В шеститомное собрание сочинений писателя вошли его лучшие исторические романы — хроники и повести. Почти все не издавались более восьмидесяти лет. В шестой том вошли романы — хроники ` Осажденная Варшава` и `Сгибла Польша! (Finis Poloniae!)`.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Умолк старик. Загудела толпа, замахала руками, заспорила.
Каждый по-своему понял длинную речь старца. Но общее мирное настроение овладело собранием. Спорили без озлобления, обсуждали, строили планы.
Бледный, тщедушный еврей-портной деловито расспрашивал одного из юношей, Озию Люблинера:
— Ну, вы говорите Народовая гвардия?.. Городское войско… А какой кунтуш для евреев?..
— Не кунтуш, полукафтан гранатовый, кармазиновый, воротник и белые выпушки. Шапка гранатовая, с черным барашком и кармазиновым верхом. Сабля, пистоли за поясом.
— Пистоли, они же могут выстрелить нечаянно и наделать беды. А без них с одной саблей нельзя, нет?.. Жаль… Хотя можно такие взять пистоли, чтобы они не стреляли. И то правда… Для формы только. Я и не догадался сразу… Вот еще нехорошо, что бороду надо брить… Не велит закон… Но если другие добрые евреи решаются… Почему же и я?..
Долго еще толковали евреи.
Затем принесли листы. Стали на одном записывать взносы денежные. А на других — появился ряд имен: записывались желающие вступить в ряды городской гвардии в особые отряды, исключительно составленные из евреев, как решил уже раньше Ржонд.
Вечером того же дня накурено, людно и шумно было, в "Дзюрке", ставшей давно местом сборища самых беспокойных кружков варшавской молодежи и более зрелых сторойников разных крайних партий. В этот вечер буквально пройти нельзя во всех помещениях кофейни. Хорошенькие служанки уж и не пытались доставлять по назначению стаканы и кружки. Они появлялись у буфета и объявляли:
— В заднюю комнатку или в большой зал пану, который за угловым столом, кофе и пончики…
Поднос брали ближайшие посетители, и он из рук в руки передавался до места назначения.
Недалеко от "Дзюрки", в обширных, пустых помещениях "Редутов" вечером, попозднее назначена сходка членов Патриотического Союза и вообще всех, кто желает принимать участие в общей работе на спасение отчизны.
Вот почему в ожидании назначенного часа такое количество людей сбилось в небольшой кофейне, подкрепляясь в ожидании долговременного заседания, обмениваясь предварительными соображениями, намечая план предстоящих выступлений.
В первой комнате, недалеко от входа, сидит плохо одетый, тощий, бледный господин лет сорока, "молодой", начинающий неудачник-поэт и журналист Ян Чинский в компании нескольких других представителей варшавского литературного мирка, весьма близкого по типу к богеме, обитающей в Париже, любимом городе польских литераторов и близких к народной политике людей.
Сидит здесь Айгнер, охрипший уже утром на еврейском собрании в синагоге, но весело поблескивающий своими восточными темными, яркими глазами; рядом — талантливый Людвик Жуковский, за ним БродзиньСкий, Яновский, Кициньский; молоденький чиновничек Юлий Словацкий, над которым уже веет дыхание высокой поэзии. С ними и Францишек Моравский, такой непостоянный, то полный тоски, то порывистый и бурный, как строфы его яркой поэмки "Висла", которую он в эту минуту — и довольно скверно — читает своим друзьям.
Те слушают, напрягая внимание, что довольно нелегко посреди общего гама. Словацкий особенно чутко ловит красивые созвучья, яркие образы, смелые сравнения и мысли. Один лишь Ян Чинский с небрежным видом потягивает свою кружку пива, не меняя кисло-презрительного выражения, свойственного ему почти всегда.
Кончил Моравский, рукоплещут ему товарищи, жмет руку Словацкий. Только Чинский, не меняя ни позы, ни выражения лица, слегка одобрительно покивал головой и уронил:
— Что ж… Ничего себе! А где тиснешь, Францю, свои стишки?
— Отнес в "Меркурий"… Обещали напечатать… Что это значит? Отчего ты необычайную рожу такую скорчил?.. И мычишь? В чем дело?
— Да компания там, дьявол их знает, какая. Ненастоящие демократы. Торгаши больше да обыватели "буржуи"… А почем за строчку? Не спросил? Дурак! А еще поэтом хочешь быть… Эти мерзавцы наживаются за наш счет. А мы с ними миндальничаем. Бросить пора такую политику. Лагерь свой мы знаем, нас немало. Публика читает нас, а не их объявления о секретных резиновых принадлежностях. Надо и держать себя с достоинством, надо…
— Молчи, Чинский! Расседлай своего конька… И ослу дай отдохнуть! — послышались окрики.
— Какому ослу?.. Кто там смеет?.. А! Кто осел?..
— Тот, кто не конь, разумеется… А ты ж не конь, хоть и не осел… Дай слушать. Вот Кициньский будет читать свои новые "10 заповедей Отчизны", данные ею 29 ноября сего года с крыши опустелого Бельведерчика. Слушай, черт тебя подери! Или хоть нам не мешай.
Насупился, смолк Чинский.
А молодой студентик Кициньский, стоя уже на столе, привлек к себе всеобщее внимание. Гомон стал гораздо тише, и звонкий голос чтеца, внятно разносясь по этой зальце, был слышен и в соседних комнатах кофейни.
"Аз есмь Отчизна твоя, а не чуждый край, не дом позорной неволи. И вот 10 заповедей моих даю тебе: 1) Да не будет у тебя иной Отчизны, кроме меня. 2) Если можешь служить Отчизне, не вступай на службу к чужим народам. 3) Помни, что жизнь твоя посвящена должна быть Отчизне. 4) Чти отца твоего, матерь твою, то есть — твой край родимый и свободу святую, если хочешь, чтобы имя твое жило долго в памяти сынов родной земли. 5) Не убивай равнодушием милой Отчизны и народной вольности, но храни их. 6) Не ищи почестей в чужих краях земли. 7) Не укради грошей народных, кровавых. 8) Не послушествуй свидетельства ложна против близких, то есть: шпиком и доносителем не будь. 9) Не желай земли чужой, соседской. 10) А ни домов, ни богатств, ничего, что ихнее есть. Будешь любить Отчизну и вольность всем сердцем, будешь служить им всеми силами, как для самого себя, будешь стараться, чтобы и другие народы узнали радости вольной жизни, и будешь сам счастлив и благоденствен на земле".
— Виват, Отчизна!.. Браво, пан поэт!.. Твое здоровье!.. — раздался общий громкий говор, едва смолк Кициньский и соскочил со стола.
— Круговую пьем… Круговую, братья-поляки!.. За отчизну!.. За волю!.. Возлюбим друг друга! — поднимая стакан, крикнул Словацкий.
— Возлюбим друг друга! — подхватили все старинный польский тост.
— Кохаймы — сен!
Зазвенели, зачокались кружки и стаканы, снова загалдело все кругом.
— Ослы, — сквозь зубы процедил Чинский. — Им был бы только предлог промочить свои сухие глотки… А такую, извини за правду, Кициньский, патриотическую рубленую солому, как твои заповеди, они слушают чуть ли не с большим удовольствием, чем, скажем, строфы Францишека, не говоря о более избранных произведениях поэтического творчества.
— Ну, не говори, — обиженно отозвался Кициньский. — Прочти-ка им что-нибудь из настоящих поэтов… Мицкевича, например… Увидишь, что будет.
Юноша недаром назвал это имя, ненавистное завистливому Чинскому. Тот вышел из напускного спокойствия, весь задергался, быстро заговорил:
— Мицкевич?! К черту провались со своим Мицкевичем. Он, не спорю, добрый поляк, несчастный человек… И на этом создал себе славу. Да. А поэт из него такой же, какая выйдет яичница из моих старых сапог… Да!.. Что он пишет? Трафарет. О чем говорит? О старых, забытых, никому не нужных вещах высоким, классическим штилем наших прабабушек… Пани и паненки проливают над ним слезы и вздувают эту плаксивую, водянистую знаменитость. А ослы ревут, следом идя за дамскими панталончиками и юбочками: "Ах, какой поэт!" Ну, что в нем есть?! Скажи толком, чем он так тебе дорог и мил? Когда есть Щекспир, Байрон… Шенье у французов… Когда у нас есть люди. Чем он так вам мил? Потрудитесь изложить.
— А хоть бы тем, — спокойно, желая еще больше подзадорить Чинского, отозвался Моравский, — что Мицкевича романы неприятны многим российским панам вельможам… Забыл?
— Ага, так вот у вас какое понятие о поэзии. Она не сама для себя… Не высшее творчество, а только служит для пробуждения гражданских порывов. Прекрасно, нечего сказать. Тогда я согласен: ваш Мицкевич — пророк, а вы его ученики и поклонники. Но он пророк былых дней, устарелых идеалов. И вы старые тряпицы, а не грядущая сила народа, не "Новая Польша", как дерзко величаете себя…























