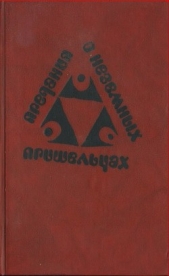Встреча. Повести и эссе

Встреча. Повести и эссе читать книгу онлайн
Современные прозаики ГДР — Анна Зегерс, Франц Фюман, Криста Вольф, Герхард Вольф, Гюнтер де Бройн, Петер Хакс, Эрик Нойч — в последние годы часто обращаются к эпохе «Бури и натиска» и романтизма. Сборник состоит из произведений этих авторов, рассказывающих о Гёте, Гофмане, Клейсте, Фуке и других писателях.
Произведения опубликованы с любезного разрешения правообладателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Бедный Гёльдерлин, говорит не чуждый музам надворный советник Гернинг, теперь вот он библиотекарь при дворе, но по-прежнему в такой меланхолии, бедняга.
Но ведь у каждого из людей — своя радость, и кому достанет сил пренебречь ею вовсе?
Не слишком увлекайтесь назиданием, ваша милость, говорит Гёльдерлин, вежливо возвращая надворному советнику исписанный листок бумаги, в остальном же я могу только приветствовать вашу затею живописать стихами таунусские целебные источники.
Что говорит в нем сейчас — разум или безумие?
Люди замечают, что он разговаривает сам с собой, на улицах, на проселочных дорогах, где появляется время от времени, впрочем не часто. Он обращается только к себе, ничего вокруг не замечает и не слышит, пренебрегает своей внешностью, вызывая отвращение у посторонних; везде и всюду на него обращают внимание. Он и сам чувствует это, весь подбирается, злится. А людям того только и надо. Дети бегут за ним следом, что-то кричат ему в спину. Тогда он приходит в неистовство. И сам восстанавливает против себя обитателей Хомбурга. Именно он, а не наступающие французы — главный предмет городских толков.
Теперь он живет у шорника Латнера, вполне порядочная семья, приличные люди, добросовестно исполняющие свой долг, — они уважают его, хотя и совсем не понимают. Слегка раздражает их только фортепиано, за которым он порою просиживает часами, снова и снова повторяя одну и ту же мелодию, при этом он колотит по клавишам как одержимый, терзает бедный, ни в чем не повинный инструмент.
А знаешь, в чем таится корень зла? Люди испытывают страх друг перед другом, вот почему охотно поделятся они едою и питьем, но никогда не поделятся тем, что питает душу: они не могут допустить, чтоб сказанное или содеянное ими однажды преобразилось в ином человеке в пламя.
С кем это он говорит?
Каждый день я вновь призываю ушедших богов. Мысль моя обращается к великим мужам древности. Они жили в великие времена и, пылая священным огнем, зажигали весь мир вкруг себя, как сухую солому. А рядом с ними я, нынешний, чуть тлеющая лампада, одиноко брожу я среди людей, вымаливая себе хоть каплю масла, чтоб и дальше светить в ночи, — и тогда ужас пронзает все мои члены, и я выкликаю страшные слова: живой мертвец!
Лирический персонаж — так называет его господин надворный советник — всегда немного не в себе, голова вечно забита древними греками, форменный грекоман, в который раз уже перепахивает Пиндара. Не от мира сего.
Такие вот стихи.
Сам он истолковывает их так: страх перед правдой, страх от наслаждения ею, ваша милость, — то есть первое, живое восприятие правды живым разумом, подвержено, как и любое чистое чувство, расстройству или замешательству. Таким образом, человек заблуждается не по своей вине, но во имя предмета более высокого, для постижения которого разума уже недостаточно…
Вот и понимай как знаешь. И вечно он твердит: «живое», «жизненность», «правда». Сбивается и тогда начинает обращаться к самому себе, а ведь если подумать, то к кому же еще?
Поди ничего уж больше и не пишет. Даже писем.
Любезнейший мой сын! Ужель отказано мне ныне в счастии получить в ответ на все мои бесчисленные просьбы хотя бы несколько строк от тебя, дорогой мой…
Матушка посылает ему связанные собственными руками фуфайки и шерстяные чулки. Носи на здоровье, не береги. Да смилуется бог над нами и нашей несчастной страной, да подарит снова нам и всем на свете людям блаженный мир…
И это письмо без ответа.
Синклер, мой Синклер [63], зачем ты уехал из Хомбурга.
Шмид [64], с которым он общался еще совсем недавно, теперь далеко. Говорят, его отвезли, невменяемого, в монастырь Хайна, чтобы там вновь сделать полезным членом общества, а еще говорят, что все это устроил собственный его отец.
Холодный мир. Сумерки души. Все возвышенное обесценено, стало разменной монетой.
Зекендорф выслан из страны [65]. Буонапарте в Вюртемберге. Курфюрст теперь коронован [66]. Выборные представители сословий разогнаны. Бац, вернувшийся из заключения, — сломленный человек.
В такие времена человек теряется, не помнит уже ни себя, ни бога.
Ибо крайняя граница страдания есть всего лишь обусловленность временем или пространством. Здесь теряется человек.
В каком же времени живет он сам, в каком пространстве, сколько несчитанных шагов сделано им уже между взлетами и падениями, между жаром и холодом душевным.
Вокруг него так тихо. Он этого не выносит. Прислушивается к звукам за дверью, ловит обрывки фраз из раскрытого окна. Неужели кто-то идет к нему? По-прежнему никого. Не схвачен ли Синклер?
Фортепиано издает одни и те же звуки, ничего нового.
Он поднимает деревянную крышку. Рвет струны, до крови расцарапывает себе руки, потом долго с остановившимся взглядом стоит в дверях; добрейшие хозяева в ужасе отшатываются от него.
Они теперь стараются не попадаться ему на глаза. Твердят повсюду, что он повредился в уме. Достаточно только взглянуть на него: волосы спутаны, ногти длинные, да и вообще вид ужасный. Ему нельзя больше оставаться здесь. Здесь у него никакой надежды поправить здоровье.
Никто о нем не заботится, никто не пытается поговорить с ним ласково, поделиться душевным теплом.
Я для них умер давно [67], да и они — для меня. Значит, один я.
Но ведь у каждого из людей — своя радость, и кому достанет сил пренебречь ею вовсе?
Он им больше не нужен.
И будет скоро голос мой скитаться, как пес бездомный, в зное и пыли, среди садов, где обитают люди. Ведь человек есть центр мирозданья, и нынешнее время — тоже время, совсем уже немецкого оттенка.
Мрачное предчувствие, у самой пропасти.
Наступает утро одиннадцатого сентября 1806 года.
Гёльдерлину передано указание закупить книги для библиотеки ландграфа в Тюбингене.
К домику подают экипаж. Он готов отправиться в путешествие. Из экипажа выходит человек, вовсе ему не знакомый. На лицах у хозяев появляется сочувственное выражение.
Я не хочу ехать, говорит Гёльдерлин.
Человек входит в комнату. Все они что-то говорят.
Со мной ничего не случится? — спрашивает Гёльдерлин. Правда?
И еще: Я готов с чистой совестью предстать перед моим всемилостивейшим курфюрстом.
Его провожают до экипажа. И тут он начинает сопротивляться. Дерется и царапается своими длинными, острыми ногтями. У незнакомца все лицо в крови. И сам он тоже перепачкан кровью. В конце концов его одолевают. Высунувшись из экипажа, он из последних сил кричит, что его увозят курфюрстовы ищейки. У людей, стоящих вокруг, долго звенит в ушах этот крик.
«Le pauvre Holterling» [68], — напишет о событиях этого дня известная своим мягкосердечием супруга ландграфа Каролина в письме к дочери.
Можете себе представить, сколь глубоко все это огорчает меня, писал Синклер матери Гёльдерлина, но любому чувству должно подчиняться необходимости, а в наши дни мы весьма часто подобное подчинение испытываем. Ведь дальнейшее пребывание его на свободе грозило опасностью окружающим людям, и, кроме того, вы знаете, что в нашем краю нет сходных лечебных заведений.
Гёльдерлина доставляют в клинику профессора Аутенрита в Тюбингене. Он в неистовстве: буйствует, кричит, мешая извинения с проклятиями.
На этот случай, однако, в клинике имеется специальная маска, изобретенная главой заведения для борьбы с криками пациентов. Маска изготовляется из кожи, идущей обыкновенно на подметки, и дугой охватывает подбородок снизу. На внутренней ее стороне против рта находится мягкое утолщение из более тонкой кожи. Предусмотрены также отверстия для глаз и носа. Двумя ремешками, проходящими под и над ухом, маска крепится на затылке, одновременно третий, более широкий ремень, продернутый через боковые петли, стягивает челюсти и зашнуровывается на темени. Таким образом исключается широкое раскрытие рта. Губы пациента спереди прижаты утолщением из мягкой кожи. А чтобы больной не мог сорвать маску, руки ему связывают за спиной. В этом положении пациенты проводили иногда по нескольку часов, и, если верить профессору Аутенриту, впоследствии они уже не кричали даже после снятия маски. Но этот Гёльдерлин настоящий безумец.