Чудаки
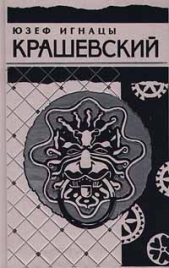
Чудаки читать книгу онлайн
Каждое произведение Крашевского, прекрасного рассказчика, колоритного бытописателя и исторического романиста представляет живую, высокоправдивую характеристику, живописную летопись той поры, из которой оно было взято. Как самый внимательный, неусыпный наблюдатель, необыкновенно добросовестный при этом, Крашевский следил за жизнью решительно всех слоев общества, за его насущными потребностями, за идеями, волнующими его в данный момент, за направлением, в нем преобладающим.
Чудные, роскошные картины природы, полные истинной поэзии, хватающие за сердце сцены с бездной трагизма придают романам и повестям Крашевского еще больше прелести и увлекательности.
Крашевский положил начало польскому роману и таким образом бесспорно является его воссоздателем. В области романа он решительно не имел себе соперников в польской литературе.
Крашевский писал просто, необыкновенно доступно, и это, независимо от его выдающегося таланта, приобрело ему огромный круг читателей и польских, и иностранных.
В шестой том Собрания сочинений вошли повести `Последний из Секиринских`, `Уляна`, `Осторожнеес огнем` и романы `Болеславцы` и `Чудаки`.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Отправляясь на охоту с дедом, я видел множество ветхих зданий, стоящих на поле. Я спросил его, что это такое? Он отвечал мне с улыбкой, почесав затылок:
— Хе! Не видишь что ли, что скирды.
— Что это за скирды? — спросил я.
Конюший помирал со смеху, и ответил, ложась на повозку:
— Хороший вышел бы из тебя хозяин? Это склад хлеба на поле.
— К чему его так много?
— Запас, паничу, запас!
Я насчитал этого запасу несколько десятков, и осмелился спросить деда, зачем он не продаст хотя бы часть этого огромного запаса, если нуждается в деньгах и жалуется на тяжелые времена?
— Разве я банкрот, чтобы распродавать запас! — вскричал он с сердцем.
Поймите же их! Копейки у них нет, охают, жалуются, чуть соберутся — другого разговора у них нет, как о тяжелых временах; покупщиков много, а хлеб гниет на поле, и едят его мыши. В этом есть какая-то тайна; дом моего деда — Эдипова загадка. Пан конюший говорил мне, что в прошедшем году ему предложили провести почтовую дорогу через Тужу-Гору, что, разумеется, оживило бы и обогатило окрестность.
— На кой черт мне это! — отвечал он. — Почтовая дорога только нагонит мне шум, крик и незваных гостей. Вчерашний день служит образцом завтрашнему: люди, вещи, язык, обычаи, понятия, все осталось вчерашнее. Третьего дня означает здесь несколько лет тому назад. — Начиная с лошадей, которых наряжают в хомуты XVII столетия, до сапогов с кистями, которые надевает мой дед, все здесь не нынешнее. Они презирают день, который переживают, и всякую новость считают грехом; они приостановили бы время за полы, если бы у времени были полы, и охотно возвратились бы ко временам Саксов. [2] Богачи, они не пользуются своим богатством. В доме деда господствует величайшая скупость. Дед имеет при себе главные ключи, менее важные доверяет Мальцовскому, а все остальные вешают на колышек в спальне деда. В обстановке жилища у них все по-старому: затыкают только дыры, которые время пробило тощими локтями. Новость, этот двигатель нашей жизни, они считают самым отвратительнейшим явлением. Можешь себе вообразить каково мне здесь?!.
Я не умею говорить, ходить по-ихнему. То они смеются надо мною, то я им удивляюсь, потому что смеяться не могу и не хочу. Дедушка любезен, но помаленьку берет меня на исповедь; и с особенной заботливостью допрашивает о моем имении, а я не знаю, что ему сказать. Если он еще раз прижмет меня, то мне придется сказать ему всю правду.
Он очень гостеприимен, хотел бы занять меня и поразвлечь, но, придумывая различные увеселения, заканчивает всегда охотой, которую он разнообразит по-своему.
Хотя я ко всему приготовлен, сомневаюсь, однако, переживу ли я это? Но пустить пулю в лоб время еще терпит; я могу подождать ради любопытства, которое раздражает мои нервы, разгадать загадку. Будь счастлив, мой друг, прощай до следующей почты.
«Твой Юрий».
P. S. Я читаю со слезами на глазах старый, прошлогодний «Варшавский Курьер», которым были обернуты мои лакированные сапоги. Он имеет в моих глазах особенную прелесть; изображает прошедшее просто, неизысканно. О, неоцененный Курьер! Какой слог! Какое разнообразие предметов! Сколько остроумия в шарадах! Сколько характеристичности в объявлениях! В нем сияет Варшава, трепещет жизнь!
У меня нет ни сигар, ни табаку; послали нарочного за шесть или десять миль; а пока я курю что-то такое, от чего тебе стало бы тошно от одного запаха; здесь это называют Залибоцким (или Забиятским, яд, да и только!)
Дурная привычка к чему не приведет!! Станислав стал молчалив, мрачен, и вдобавок не чистит сапог, доказывая что на Полесье это совсем лишняя вещь.
III
Тужа-Гора, 20 октября
Дорогой Эдмунд!
Наконец я начинаю знакомиться с здешними соседями: вчера был капитан. Поздравь меня с этим знакомством. Я воображал увидеть воина, героя из повестей наполеоновских времен, и страшно ошибся. Представь себе фигуру, одетую не лучше пражского ремесленника, в серенькое, истертое платье, с лицом бледным, увядшим, фигуру, которая, льстя конюшему до дерзости, низкопоклонничает перед ним и болтает, как мельница. Представь себе этого гостя, которому я подал бы милостыню, встретив на улице, а дед мой посадил на первое место, угощал, принимал самым любезным образом. Один другого называл dobrodzieju, один другому говорил «целую ножки»; это ведь ничего не стоит. Несмотря на это, они, по-видимому, смеялись друг над другом с величайшей вежливостью.
Я должен категорически описать тебе этот первый цветок, который я нашел в степи, определяя его, как ботаник определяет найденное растение. Росту: два аршина, вершков… (в следующем письме пришлю точную мерку), худой, сухой, руки длинные, с огромными пальцами, наконец, ноги толстые, спина согнутая, голова плешивая, седоватая, глаза серые, улыбающиеся, искоса лукаво подсматривающие, усы, определяющие капитанский чин, но в пренебрежении, как трава под забором. Это не те усы, которые служат украшением лицу и платят ему за это любовью; их обязанность засматривать любопытно в тарелку, и присваивать себе остатки обеда. Лицо изнуренное, щеки впалые… Он одних, кажется, лет с моим дедом. Платье серенькое, камзол чуть ли не из старого одеяла выкроен, табакерка в кармане, кисет на пуговке, сшитый из тряпичных треугольников различных цветов. Вот тебе капитан. Но ни один живописец не в состоянии уловить выражения лица его, ни Бродовский, ни Норвид. Какая в нем хитрая покорность, какая забавная униженность! Олицетворенная лисица!
Дедушка изумил меня, низкопоклонничая и унижаясь в перегонки с ним. Дорогой сосед пробыл до сумерек; уехал в простой повозке, запряженной плохою тройкой. Кучером и камердинером был у него простой мужик в сермяге, с трубкой во рту. Когда он ехал, я спросил у конюшего:
— Кто этот бедный, невзрачный господин? Должно быть ничтожный шляхтич?
Дед мой фыркнул со смеху.
— Опять «скирда» (он мои ошибки привык называть «скирдами»). Он бедный, бедный! Так-то вы, варшавяне, умеете узнавать людей! Капитан со всею своей покорностью — самый твердый орех для соседей, и сидит на мешках золота. Это Крез, богач.
— Богач!!! — Я изумился. — У него, верно, есть семья, для которой он собирает деньги?
— Жена померла, сын в военной службе и ничего из дому не получает! Один живет, старый скряга!
После этих восклицаний дед замолчал, вздохнул, глаза его мрачно сверкали, я его еще не видал в таком состоянии. Я не понимал в чем дело, но вдруг дед мой повеселел и прибавил:
— О, меня-то он не съест в каше!
— Кто? — спросил я простодушно.
— А достойнейший капитан. Но ты ничего не знаешь?
— Решительно ничего; я нисколько не подозревал, чтобы вы хотели есть друг друга, а судя по приему и обхождению, я думал даже, что вы глубоко уважаете друг друга.
Старик опять фыркнул и поправил хохолок.
— Терпение! — вскричал он. — Labor omnia vincit. Видишь, что даже плохой латынью блеснуть могу.
— Но по какой причине ему точить на вас зубы?
— Ты ничего не знаешь, братец, — повторил дед, — но здесь у нас под носом страшные вещи творятся.
— Я всякий день удостоверяюсь, что ничего не знаю и не понимаю, что делается на Полесье: иной народ, иная жизнь, иные связи.
Старик посмотрел мне в глаза, поцеловал в лоб, как будто в благодарность за мое грубое невежество, и смеясь, сказал:
— О sancta simplicitas! Съест черта, но не меня! Нужно объяснить тебе, в чем дело, — продолжал он и смотрел мне в глаза, как будто хотел их выколоть. — Ты должен знать, что капитан самая отвратительнейшая дрянь на земле. Я могу тебе сказать на ухо, — это шельма, какой свет не создал.
— Вот как?
— Именно так! — говорил дед, все более и более горячась. — Я не знаю подобного ему человека — такая дрянь! Со своею деревней подлез мне под самый бок, и хочет склонить меня к тяжбе, стараясь втянуть в дело, чтобы лес и луг, которые принадлежат к Тужей-Горе, отошли бы к нему. Но я не дурак! Предупреждая его, я хотел купить этот пустяк, но негодный Джазгевич надул меня; верно взял с него взятку, хотя тот не охотник давать. Я отплачу Джазгевичу — время терпит. Ну после этого капитан стал придираться ко мне за рубеж. Но я, дорожа спокойствием, держусь настороже. Когда соберется буря, тогда нечего делать, потешимся!


























