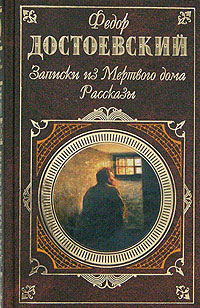Игра. Достоевский
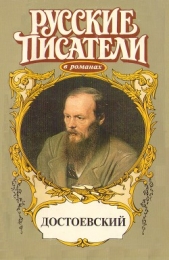
Игра. Достоевский читать книгу онлайн
Роман В. Есенкова повествует о том периоде жизни Ф. М. Достоевского, когда писатель с молодой женой, скрываясь от кредиторов, был вынужден жить за границей (лето—осень 1867г.). Постоянная забота о деньгах не останавливает работу творческой мысли писателя.
Читатели узнают, как создавался первый роман Достоевского «Бедные люди», станут свидетелями зарождения замысла романа «Идиот», увидят, как складывались отношения писателя с его великими современниками — Некрасовым, Белинским, Гончаровым, Тургеневым, Огарёвым.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
К пьяным он испытывал брезгливое сострадание, но пьяный сосед вызвал тошнотное и злорадное отвращение. О своём невольном товарище он держался лучшего мнения.
Он представил возню этих бесцеремонных пьяных людей, которые ввалились явно совсем не в себе, и понял, что уснуть они не дадут и придётся слоняться на ногах до утра. От этой мысли, а может быть от усталости, вдруг стала трещать голова. Он нахмурился и мрачно глядел на незваных гостей.
Растрёпанный Григорович, теснясь и толкаясь, раскинул длинные руки для пьяных и, стало быть, слюнявых объятий, но, взглянув на него, очень трезво взглянув, отступил, сорвал с головы измятую, небрежно сидевшую шляпу, взмахнул не то шутовски, не то с комическим торжеством и громко, быстро, высоким фальцетом стал напыщенно-вежливо говорить:
— Простите, Достоевский, что поздно, это Некрасов, я вам говорил...
Закрыв дверь за собой, по-хозяйски задвинув засов, Некрасов шагнул вперёд, слегка отстранив Григоровича, и хрипло, полушёпотом произнёс:
— Поверьте, Фёдор Михайлович, я отговаривал... и очень рад, я счастлив познакомиться с вами.
Он уловил наконец что-то странное в их голосах. Вином от них как будто не пахло. В разгорячённых трепетных лицах не видно было этой дурацкой пьяной застылости, а осмысленные глаза сияли как будто пламенным чувством, и он всем настроением этой тёплой июньской кончавшейся ночи почти угадал, что случилось у них, но не посмел ничего понимать, даже застыдясь своего подозрения, опять испугался, что всё это навыдумывал, понял неверно, и, остерегаясь попасть в недостойное положение, совсем растерялся и протянул дрожащую руку.
Некрасов до боли стиснул её небольшой, но крепкой мускулистой рукой и тем же хриплым, натужным, неестественным полушёпотом заспешил:
— Извините, вы извините... это было... я не мог его удержать...
Григорович радостно швырнул шляпу на крюк и, тряся кудрями, опуская руки в карманы клетчатых брюк, торопливо принялся объяснять:
— Вы сами виноваты, вы, Достоевский... ваше появление... это же настоящий успех!
Некрасов, сдёрнув фуражку, стиснув её в кулаке, извинялся низким, будто сорванным, болезненным голосом:
— Ведь уже четыре часа, никак не меньше, если не больше... я ему говорил... вот... двенадцать минут-с...
Григорович вскрикнул, схватив Некрасова за плечо, наклоняясь над ним:
— Но пройдёмте, пройдёмте!
И они, уступая друг другу дорогу, давя ноги, толкаясь, прошли в общую комнату, забыв в прихожей свечу, но в комнате она была не нужна, рассвело.
Он в беспокойстве сел на диван, вопросительно разглядывая то одного, то другого.
Некрасов, держа на ладони часы, тотчас опустился на стул, фуражку надел на колено и, кивнув Григоровичу, попросил:
— Так ты расскажи...
Уже наступало безмятежное ясное летнее утро. Первое солнце улыбчиво блестело в верхних стёклах противоположного дома.
Григорович нервно шагал у окна и громко, восторженно говорил:
— Прихожу к нему, приношу рукопись и прошу, чтобы сел и послушал. Он собирался делать неотложный визит, огрызнулся, потом согласился: «Хорошо, говорит, с десяти страниц будет видно...»
Обращаясь к нему, Некрасов горячо перебил:
— Нет, что же ты, это я объясню, у меня это принцип такой... это надо же понимать...
Григорович досадливо отмахнулся:
— Да знает он принцип твой, я ему объяснял.
Некрасов, всё ещё взвешивая часы на раскрытой ладони, упрямо мотал головой:
— Нет, погоди, я читаю, Фёдор Михайлович, из десяти разных мест по странице и вижу, стоит ли дальше читать или лучше бросить совсем, дребедень. В этом принципе для вас лично обидного нет!
Григорович рассмеялся необычно, визгливо, как никогда не смеялся, должно быть торопясь продолжать:
— Полно, Некрасов, какая обида, он же свой человек, говорил я тебе. Стали читать...
Он уже слышал и понял по неестественным их голосам, что на них его повесть произвела впечатление, но это заурядное выражение «стали читать», прозвучавшее так прозаично, вдруг поразило его, он весь сжался, сиротливо ожидая дальнейшего, как приговора, но не хотел показывать этого и, заложив ногу за ногу, обхватив руками колено, сосредоточенно устремился перед собой, плохо видя, что делали его собеседники. Всё плыло и совалось в глаза по кускам. То утро разгоралось всё ярче, то Некрасов, сидя боком на стуле, всё держал на ладони часы с тонкой поднятой крышкой, то Григорович стоял перед ним, широко улыбаясь длинным чувственным ртом, восторженно повествуя:
— Ну, известное дело, прочитал я десять страниц, как он велел, остановился по уговору, а он сухо так говорит: «Пожалуй, говорит, давай ещё пять или десять». Я ещё прочитал, смотрю на него. Тогда он молча взял вашу тетрадь от меня и стал читать деревянным остановившимся голосом. Только голос-то слаб у него, он скоро устал, я беру у него, продолжаю, он, отдохнувши, снова берёт от меня, и мы всё время чередуемся с ним. Он читает, где смерть студента, вдруг вижу, когда отец за гробом бежит, голос у него прерывается, раз и другой, и вдруг не выдержал он, стукнул по тетрадке ладонью, кричит: «Ах, чтоб его, чёрт побери!» Это он про вас-то, про вас! Это он-то, холодный, замкнутый, точно на ключ, почти не сообщительный близко ни с кем! Ну, вижу, пробрало его. А он задыхается и не может читать.
Щёлкнув крышкой так неожиданно громко, что вздрогнули все, сунув часы в жилетный карман, Некрасов протянул к нему смуглую руку, словно прося подаяния, и признался сдавленным голосом:
— Ваша повесть разворошила меня... то, что прятал от всех, больше всего от себя... Этот, ваш, совсем как отец, жестокий красавец, не умел полюбить ни жену, ни меня. Комфорт жизни — одна его страсть, им бы только пожить в своё удовольствие...
В этом неожиданном, в этом внезапном душевном признании он в тот же миг навсегда угадал большое, чистое, наболевшее чувство у этого холодного, в самом деле замкнувшегося от всех человека, и в душе его загорелся огонь первой в жизни, единственной радости.
Захваченный, обожжённый, взволнованный ею, он не понимал, что должен делать, что говорить, благодарить ли, не страшась показаться самовлюблённым глупым мальчишкой, молчать ли, рискуя прослыть гордецом, а рука Некрасова, смуглая, небольшая, с короткими пальцами, всё тянулась к нему, умоляя о чём-то, и он почти испуганно подтвердил:
— Красавцы часто бывают жестоки, это все чувства застывают, не развиваются от эгоизма, непременного следствия красоты, сами слишком любят себя, такая черта, в своём тоже роде уродство.
Побледнев ещё больше, Некрасов жёстко, с застывшим лицом подтвердил:
— Может быть, в самом деле черта, одно горе от этой черты, я вам доложу. Мой отец развлекался, все карты, охота, вино, а мать, белокурая, хрупкая...
Небольшое лицо вдруг задрожало, хриплый, надломленный голос прервался и прозвенел:
— Он, может быть, и не ведал, что мучит её, а она беспрерывно, безутешно страдала, ей нужна была музыка, ласка, цветы, а при нём она боялась читать или сесть к фортепьяно, а он всё хохотал и глумился над ней, ежедневная, ежечасная пытка, и я понимал, ребёнком совсем, что она жертва, тоже как я, что моё разбитое, неприютное детство и её одинокая жизнь в тоске и в слезах, что нам это вместе, что это всё от него, что невозможно больше страдать...
Некрасов нагнул ещё ниже крепкую голову, пряча, должно быть, лицо, точно сведённое судорогой, две слезинки скупо катились по бледным щекам, глухой голос то обрывался, то вновь раздавался с трудом:
— Ваша Варя... Варвара Алексеевна... этот ваш «ангельчик мой»... как она... такая невинная, нежная... и эти псари, и пьяная брань отставных капитанов... Тоже ангел и в том же аду... Ведь вы на это послали её, обрекли, я это знаю, я видел своими глазами... За что?
Он впервые видел этого сдержанного, угрюмого, по виду сильного человека, но эти побледневшие щёки, и скупые слезинки, и срывавшийся голос, и эти глухие слова затаённого горя и стыдливого сострадания всё о нём рассказали ему, и он тотчас, словно вспыхнуло в нём, обожгло, проник всего человека, до самого дна, до последней черты, до самых главных и даже затаённых сторон его оскорблённо-мятежного духа, до того, наконец, чем тайно живёт и что одно делает его человеком. Ему разом открылось тогда, что в самые первые, в свои беззащитные годы душа Некрасова, тонкая, нежная, унаследованная, должно быть, от матери, была словно прострелена жестоким отцом и ранена навсегда, что эта незажившая, незаживавшая рана была глубоким и верным истоком его страдальческих страстных стихов, что если в жизни этого сурового человека останется что-то святое, что могло бы спасти, могло бы послужить маяком, в самые тёмные, в самые роковые минуты судьбы, когда отступают от нравственного закона, чтобы уже не вернуться назад, то, уж конечно, это будет его первое детство, эти ужасные безвинные детские слёзки, эти рыдания вместе, где-нибудь в уголке, обнявшись, чтобы не видел никто, не застал, не наглумился ещё, о чём Некрасов сам не сказал, но что он уже доподлинно видел и мог поручиться, что тот непременно расскажет ещё, может быть, через слово, и расскажет именно в этих по смыслу словах.