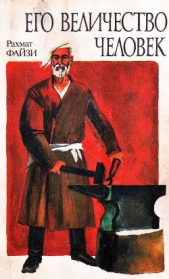Жизнь Лаврентия Серякова
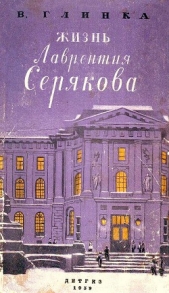
Жизнь Лаврентия Серякова читать книгу онлайн
Жизнь известного русского художника-гравера Лаврентия Авксентьевича Серякова (1824–1881) — редкий пример упорного, всепобеждающего трудолюбия и удивительной преданности искусству.
Сын крепостного крестьянина, сданного в солдаты, Серяков уже восьмилетним ребенком был зачислен на военную службу, но жестокая муштра и телесные наказания не убили в нем жажду знаний и страсть к рисованию.
Побывав последовательно полковым певчим и музыкантом, учителем солдатских детей — кантонистов, военным писарем и топографом, самоучкой овладев гравированием на дереве, Серяков «чудом» попал в число учеников Академии художеств и, блестяще ее окончив, достиг в искусстве гравирования по дереву небывалых до того высот — смог воспроизводить для печати прославленные произведения живописи.
Первый русский художник, получивший почетное звание академика за гравирование на дереве, Л. А. Серяков был автором многих сотен гравюр, украсивших русские художественные издания 1840–1870 годов, и подготовил ряд граверов — продолжателей своего дела. Туберкулез — следствие тяжелых условий жизни — преждевременно свел в могилу этого талантливого человека.
В основе этой повести лежат архивные и печатные материалы. Написал ее Владислав Михайлович Глинка, научный сотрудник Государственного Эрмитажа.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ну хорошо, — сказал Лаврентий, — про это я слышал в академии, но то в Европе, а нам-то что ж? У нас ведь все спокойно.
— Ах вы, дитя в солдатской форме! — усмехнулся Линк. — Молите бога, чтоб и на нашей «Иллюстрации» все это не отозвалось. — Он потрепал приятеля по плечу, задул свечку и вышел в коридор.
Занятия в академии шли успешно, за каждый рисунок Серяков получал первые номера, и в апреле его перевели в старший гипсовый класс, где рисовали уже не головы, а фигуры и группы. Вскоре после этого он встретил в коридоре Григоровича.
— Что, батенька, проборка моя тебе на пользу пошла?
— Так точно, ваше превосходительство! Что еще мог ответить Лаврентий?
— А как же устроился с Башуцким?
— Работаю меньше и получаю меньше.
— Однако хватает тебе? Вроде осунулся малость… — Из-под нависших бровей испытующе смотрели на Серякова голубые выцветшие глаза. — При таких успехах можно в совете пособие попросить. Я поддержу.
— Покорнейше благодарю, мне хватает и так…
Денег на жизнь Лаврентию действительно вполне хватало, но к весне он стал чувствовать ужасную усталость, совсем как в зимние дворницкие месяцы. Едва заставлял себя встать вовремя по утрам, в академии и в граверной мучительно боролся с дремотой, часто засыпал за чайным столом.
— Смотрите, Серяков, так и сорваться можно, — тревожился Линк. — Позвольте мне поговорить с бароном, чтобы еще вам здесь часов убавили. Пусть платят хоть двадцать рублей. Возьмите у меня сколько нужно, а летом опять все пятьдесят получите и отдадите.
— Спасибо, Генрих Федорович, справлюсь. Через полтора месяца конец занятиям, тогда отдохну. А то ведь нехорошо получится: комнатой и прочим буду пользоваться, а работать меньше всех.
В конце мая, как-то вечером, уже после чая, Серяков сидел один в граверной и кончал очередную доску. Раздался резкий звон колокольчика у входной двери, и через минуту Кюи в халате заглянул в мастерскую:
— Не знаете, Лаврентий, Линк скоро вернется?
— Вероятно, скоро, он гуляет не более получаса. А кто там?
— К нему господин Бернардский.
Следом за Кюи в дверях показался поздний гость.
— Можно, я здесь подожду? — спросил он.
— Конечно, — сказали в один голос Кюи и Серяков.
Наполеон ушел к себе, Лаврентий продолжал работать. Он скоро заметил, что Бернардский очень расстроен. Сидит, уставившись в одну точку, и на глазах как будто слезы.
— Не принести ли вам воды, Евстафий Ефимович?
— Спасибо, не нужно… Нынче умер дорогой мне человек.
В передней стукнула дверь — со своим ключом пришел Линк.
— Что случилось, Евстафий? — спросил он с порога.
— Умер Виссарион Григорьевич, — не поднимаясь с табурета, отвечал Бернардский, и слезы побежали у него по щекам. — Агина нет в городе, уехал с братом в Кронштадт, я и зашел к вам…
Линк обнял приятеля за плечи и увел к себе.
Через полчаса, окончив работу, Серяков пришел в свою комнату. Бернардский и Линк говорили вполголоса, но через легкую переборку было слышно почти каждое слово.
— Нет, ты подумай, Генрих, — возмущался Бернардский, — всякая мерзость живет, а такой человек умирает в тридцать семь лет!
— Это, мой друг, в нашей России весьма обыкновенно… Возраст Пушкина…
— Да, да, именно… И представь, к нему в последнюю неделю два раза приходили из Третьего отделения, все требовали к генералу Дубельту…
— Тс-с-с! — зашикал Линк и через минуту спросил, еще понизив голос: — Ну, а у Петрашевского ты всё бываешь?
— Бываю, как всегда, по пятницам.
— Лучше бы вам не собираться пока, переждать несколько.
— Думаешь, следят?
— Непременно следят. Сейчас вверху ужасно обеспокоены. Чего же больше, когда Бутурлинский комитет, как мне сказали, сочинения Кантемира и Хемницера печатать Смирдину запретил… А что там такое вредное, если сто лет назад написали…
— Быть того не может!
— Очень может, — твердо сказал Линк. — Скоро, верно, ничего, кроме календарей, печатать не станут. Общество посещения бедных закрывать придумали…
— Слышал сегодня, — отозвался Бернардский.
— А что в нем предосудительного было? — продолжал Линк. — Собирались, рассуждали, сколько бедных в Петербурге. И такое уже нельзя… Теперь и подумай, как можно сравнить их собрания с вашими разговорами! У вас что ни пятница, то проекты освобождения крестьян читают…
— Так ты полагаешь…
Собеседники перешли на шепот, но еще не раз долетали до Серякова имена Белинского и Петрашевского.
Глава XI
Нелегкий год. Голубой домик
Наступило жаркое и тревожное лето 1848 года. Эпидемия холеры, о которой было слышно прошлой осенью, что валит тысячами людей на юге России, докатилась теперь до столицы. Выходя в мелочную лавочку или на Озерный, Лаврентий слышал толки обывателей, сколько и в каком доме заболело народу, читал расклеенные полицией объявления. В них настрого приказывалось пить только кипяченую воду, тщательно мыть и кипятить овощи, добавлять в питье уксусу, окуривать помещения и одежду серой, натираться камфарным маслом.
Все, кто побогаче, выехали из города по дачам и поместьям, туда, где меньше людей, где можно вернее отгородиться от мира и надеяться, что никто не занесет страшной болезни. Будочники, «хожалые» унтеры, квартальные надзиратели и прочие полицейские чины без разбору тащили в холерные лазареты всякого бледного и слабого на вид простолюдина. Тащили туда же и пьяных, хотя от самих полицейских несло водкой за сажень. Говорили, что пьяниц холера не берет, но как тут разобрать, здоровый ли человек выпил по привычке или трезвенник напился оттого, что почувствовал в себе смертельный недуг?
В народе ходили темные слухи, что воду и пищу отравляют поляки, венгерцы, французы. На рынках хватали и смертно били итальянцев-разносчиков, немцев-акробатов, тирольцев-шарманщиков — всех, что по обличью не наши и лопочут не по-русски.
По городу для порядка и устрашения круглые сутки разъезжали кавалерийские патрули. Цокот копыт по булыжнику и фырканье коней, особенно слышные ночью, сменялись скрипом казенных фур, в которых везли на кладбище засмоленные гробы из холерных лазаретов.
Линк отменил вечерние прогулки, и они с Серяковым подолгу сиживали перед сном на подоконнике в граверной, слушая эти звуки. Каждому припоминалось то, что было связано с прошлым холерным, еще более страшным 1831 годом.
Генрих Федорович рассказывал, как мучительно было видеть страдания родителей, умиравших у него на глазах, не знать, чем помочь им. Плача, стучался он к соседям, прося хоть совета, и никто не хотел даже открыть, только кричали, чтоб не касался их дверей зараженными руками. Он вспоминал, как маленькая Шарлотта цеплялась за рубашку мертвой матери, когда пьяные лазаретные служители железными крючьями тащили трупы на телегу, чтобы бросить в прибитый к ней ящик с известью.
Они жили на Вознесенском и видели в окно, как народ бежал к Сенной, где били лекарей за то, что будто они травят, а не пользуют, как нужно, больных холерой. Потом Генрих мыл полы, как научила его осмелевшая соседка, а Лотта ходила за ним по пятам, просила есть и спрашивала, скоро ли вернется маменька…
Лаврентий, которому было шесть лет, плохо помнил события жаркого лета 1831 года, когда шло восстание военных поселян. Они с матушкой жили тогда в деревне под Старой Руссой. Отец с полком ушел на польскую войну. Ночью над сожженными засухой полями плыл тревожный набат — восставшие звонили во всех окрестных селах. По улице мимо их окон ходили поселенцы с оружием из разгромленного цейхгауза, кричали, что в штабе спрятана отрава. Матушка, крестясь и дрожа, стояла перед образами, а ему наказывала спать. Наутро сосед-поселенец сказал ей, носившей городское платье: «Марфа Емельяновна, царский указ пришел, чтоб всех господ бить. Надевай-ка сарафан, а то, не ровен час, и тебя в реку бросят».
Этих слов Лаврентий так испугался, что накрепко припал к материнским коленям.