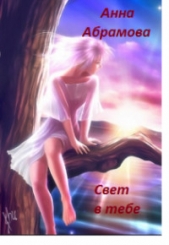Свет мой Том I (СИ)
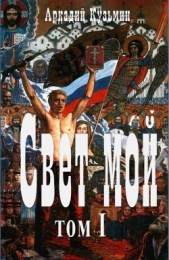
Свет мой Том I (СИ) читать книгу онлайн
Роман «Свет мой» (в 4-х книгах) — художественные воспоминания-размышления о реальных событиях XX века в России, в судьбах рядовых героев. Тот век велик на поступки соотечественников. Они узнали НЭП, коллективизацию, жили в военные 1941–1945 годы, во время перестройки и разрушения самого государства — глубокие вязкие колеи и шрамы… Но герои жили, любя, и в блокадном Ленинграде, бились с врагом, и в Сталинграде. И в оккупированном гитлеровцами Ржеве, отстоявшем от Москвы в 220 километрах… Именно ржевский мальчик прочтет немецкому офицеру ноябрьскую речь Сталина, напечатанную в газете «Правда» и сброшенную нашим самолетом 8 ноября 1941 г. как листовку… А по освобождению он попадет в военную часть и вместе с нею проделает путь через всю Польшу до Берлина, где он сделает два рисунка. А другой герой, разведчик Дунайской флотилии, высаживался с десантами под Керчью, под Одессой; он был ранен власовцем в Будапеште, затем попал в госпиталь в Белград. Ему ошибочно — как погибшему — было поставлено у Дуная надгробие. Третий молодец потерял руку под Нарвой. Четвертый — радист… Но, конечно же, на первое место ставлю в книге подвиг героинь — наших матерей, сестер. В послевоенное время мои герои, в которых — ни в одном — нет никакого вымысла и ложного пафоса, учились и работали, любили и сдружались. Кто-то стал художником. Да, впрочем, не столько военная тема в этом романе заботит автора. Одни события мимолетны, а другие — неясно, когда они начались и когда же закончатся; их не отринешь вдруг, они все еще идут и сейчас. Как и страшная междоусобица на Украине. Печально.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Они бесцельно покружили туда-сюда и зашли в кинотеатр на сеанс.
Антон уж будто бы совсем расчувствовался: Галя стала ему как-то близка; наверное, так могло быть перед близкой их разлукой. В полупустом кинозале, едва погас электрический свет и лишь засветился экран, внезапно их руки встретились и коснулись одна другой; горячий ток пробежал и пронзил их, обоих, и ее рука лежала в его руке на коленях у него.
— Ты должна мне подарить на память что-нибудь, — прошептал Антон.
И что взбрело ему в голову!
И она в ответ прошептала страстно:
— Обязательно я подарю тебе… А что ты хочешь — чтобы подарила я? — прошептала в таком нежно-упоительном и страстном восторге и ожидании чего-то славного, с таким душевным порывом, что Антон уже и не слышал и не понимал дальнейших ее слов, а лишь слышал в том одну ее иступленную влюбленность, воспринять каковую он был совершенно не готов. Он даже не мог предположить того. И никак не предполагал.
И это, охладив, остановило его вовремя: не знал он, почему, однако ему было не по себе, как он услышал от нее нечто подобное. Даже самая скромная любовь к ней для него стала невозможна, нет — то было бы явным насилием над ним; а товарищеская дружба с ней представилась ему на трезвый взгляд тоже сомнительной, — все было бы наверняка искусственно, натянуто…
Так что Антон, негодуя на себя, что дал недостойно повод, с облегчением вздохнул, когда вышел с толпой зрителей из душного кинозала на простор сказочной звездной ночи. Оттуда, с неба, словно падали и осыпались на его разгоряченное лицо прохладные бледные звезды.
Он читал недоумение в прекрасных глазах Гали, прощаясь наскоро с ней.
И вот теперь, после ее письма, безжалостно вспоминал об этом, что, впрочем, и само собой являлось ему каждый раз.
Она писала:
— Привет из Р.
… С радостью отмечаю, что ты все тот же и с тобой все так же интересно разговаривать… Ты нашел свое место в жизни и счастлив. Чувство целеустремленности у тебя, большой интерес…
«Это уже перехлест», — он поморщился.
«… Где-то я читала, что в концлагере люди придумали пытку — носить воду с одного места в другое худыми ведрами. Это убивает человека своей нелепостью, бесполезностью. То же чувствую и я. Чувствую в себе силы, смею думать, что способна на что-нибудь большее, чем, как последняя тупица, быть медиком, а к чему приложить себя — не знаю… Я учусь на V курсе, на работе несу массу общественных нагрузок по партийной, профсоюзной и комсомольской линии и все, кажется, не то, все не главное. А главного не найду. Не чувствую удовлетворения, не вижу плодов своего труда, сомневаюсь в его нужности, пользе. Не вижу в нем определенного смысла. Как-то по инерции все делаю. Да и настоящее мое положение полумедика, полуинженера-теоретика, как нечто неопределенное, раздвоенное, далеко не приносит удовлетворения. Вот откуда такое мое настроение. Этого тебе, вероятно, не понять, как художнику, видящему во всем цель, вдохновение и глубокий смысл…»
«Но как проникнуть в глубины чужой души, — подумал Антон, — и повернуть ее к роднику? Надо постараться? А знаю ли я тропинку к нему?»
XVI
Старый учебник по древней истории утеряла учительствовавшая Янина Французовна, о которой было вспомнила Анисья Павловна.
В девичестве — в прошлую, считай, эпоху — у Янины Французовны все ладилось само собой, и, может быть, поэтому прелестно, восхитительно ниспадали с ее подвижных плеч роскошные длинные платья (все нэпманки, впрочем, не носили коротких платьев); потому все прохожие с восторгом засматривались на нее — загляденье, картинку, когда она шла по улице. Глазами провожали ее. И, казалось, даже каменные дома охотно расступались перед ней. Она это чувствовала. Она мастерски лицедействовала в любительских спектаклях и вела также городские экскурсии; платья для нее кроил один искусный модельер из Дома Мод, а шил их другой искусник-портной. Старался шить. И ей удавалось играть вдохновенно. Раз она исполняла в спектакле роль неуклюжей замарашки с косичками — барской прислуги. И убедительней ее игры и быть не могло. Когда же, после представления, она смыла с лица грим, переоделась и вышла к публике в своем струящемся изумрудном платье, никто не мог признать в ней сыгранную ею замарашку: столь отменно преобразилась она вся. Неузнаваемо. Конечно же, все доброжелатели завидовали ее успехам, ее чарам, сулили ей славную артистическую карьеру.
Однако холодным октябрьским днем Янина, переусердствовав с проведением плановой экскурсии, сорвала голос, отчего вынужденно перешла покамест на работу в методический кабинет экскурсионного бюро. И здесь-то однажды проблеснул лучиком для нее случайный посетитель — солнечный юноша Павел Степин, аля Есенин, ее нежданный для нее самой будущий муж. Она сама не ведала, как могло случиться такое с ней. Она ведь держала коленкор.
Только все закономерно. Если не ты выбираешь кого-то, то тебя выбирают точно.
Почему же Яна не поехала прямо из Смоленска в Москву восемь лет назад, в 24 г., вместе с другими студентами — она не знает определенно. Но тогда петербургский институт Герцена больше приглянулся ей чем-то. И она полагалась втайне на еще юношескую свою любовь — Никиту, укатившего тогда же из Смоленска в Москву. Никита быстро стал продвигаться в науке и по службе, слал ей горячие письма, узывал ее к себе, хотел, чтобы она была рядом с ним. Тем не менее она еще считала, что ее песня еще впереди. А затем она опрометчиво, не подумавши, написала Никите, что расстояние, пролегшее сейчас между ними, видимо, помеха для них. Словом, как бы сама отказала ему в своем сердце.
А Павел по-первости производил впечатление вполне удачливого и способного молодого человека, который все может сделать для тебя, только захоти ты этого. Например, он умело доставал билеты в театр, куда они хаживали частенько.
Когда она вышла замуж за Павла, все говорили: «Убила бобра!»
Павел Степин оказался в Ленинграде летом 26 г., отличившись тем, что в 18 лет насовсем ушел из отцовского дома (из Новгородчины), поссорившись с отцом.
Отец его, Игнат Игнатьевич, крестьянствовал почти кулачком, по советским меркам, — мелким, изворотливым, как и все земледельцы, работавшие добросовестно. Нынче только борзые провозглашатели истин прославляют зажиточной гиблую дореволюционную жизнь крестьянства — всю в рюшечках. В Первую Мировую войну Игнат Игнатьевич справно прослужил каптенармусом — распределял армейские продукты, довольствие; он, следственно, заведовал каптеркой-складом имущества. Армейская должность завидная: сытая. И складывать-раскладывать цифири — попросту считать, не сбиваться — он умел неплохо.
Степинские старики, родители, два сына и дочь жили по местным масштабам и, повторим, понятиям вполне зажиточно.
Игнат Игнатьевич был раскос («Верно, не обошлось тут без татаро-монгольского ига», — приговаривала Люба, его внучка, и в том числе про себя). И временами мужицкое бешенство, что цунами, проявлялось в его характере, что впоследствии и у Павла и их с Яниной детей, у которых глаза тоже были немного раскосы, если внимательно приглядеться.
Отец не любил Павла, лодыря, которому чужда была крестьянская работа. Павел, отлынивая от нее, уже с 15 лет вовсю бегал по девкам, являлся домой с утренними петухами — и дрых без задних ног. Игнат Игнатьевич, ни слова не говоря, законно перетягивал его возжами. До следующего раза. Но так не могло, не могло продолжаться бесконечно. Слишком многое от всех требовала тяжелая землепашеская доля-невольница; Павлу же хотелось пожить в свое удовольствие, погулять. К этому времени отношения к друг другу сына и отца сложились такие невыносимые, тягостные, что когда Павел уходил с хутора на станцию, то он шел по одной стороне улицы, а отец — по другой. И они даже не взглянули в глаза друг другу на прощание.
Известно, что при хозяйствовании на земле, при возделывании почвы, культур посадочных, садовых, при содержании скота и домашней птицы, кроме опыта и определенных знаний и набора инвентаря, нужны, разумеется, смекалка, хватка. И этим Игнат Игнатьевич определенно обладал. Так, он самолично пришел к выводу, что коров надо держать во дворе не только для навоза, чтобы удобрять пашню, но и для получения в больших объемах молока. Он купил сепаратор, а маслобойку сделал старший сын Егор, которого он очень любил — за его сметливость, хозяйственность; они стали сбивать масло из сливок. Формировалось оно по фунту — и отвозилось регулярно на рынок. А оттуда, с рынка, они привозили жмых для скота. Шел как бы оборот товара. Игнат Игнатьевич уже знал и то, что коров нужно кормить по диете. Вот еще когда познакомились с этим словом!
![Торговцы [=Торгаши]](/uploads/posts/books/187865/187865.jpg)