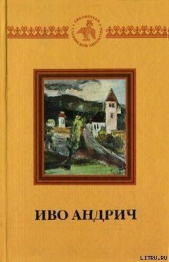Травницкая хроника. Мост на Дрине
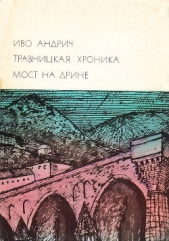
Травницкая хроника. Мост на Дрине читать книгу онлайн
Трагическая история Боснии с наибольшей полнотой и последовательностью раскрыта в двух исторических романах Андрича — «Травницкая хроника» и «Мост на Дрине».
«Травницкая хроника» — это повествование о восьми годах жизни Травника, глухой турецкой провинции, которая оказывается втянутой в наполеоновские войны — от блистательных побед на полях Аустерлица и при Ваграме и до поражения в войне с Россией.
«Мост на Дрине» — роман, отличающийся интересной и своеобразной композицией. Все события, происходящие в романе на протяжении нескольких веков (1516–1914 гг.), так или иначе связаны с существованием белоснежного красавца-моста на реке Дрине, построенного в боснийском городе Вышеграде уроженцем этого города, отуреченным сербом великим визирем Мехмед-пашой.
Вступительная статья Е. Книпович.
Примечания О. Кутасовой и В. Зеленина.
Иллюстрации Л. Зусмана.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Давиль по-прежнему не столько слушал молодого человека, сколько наблюдал за ним. И думал: он, по-видимому, решил объяснить и оправдать сегодня все ужасы и безобразия этой страны. Вероятно, в своей книге о Боснии он как раз дошел до этого места и теперь чувствует потребность прочесть об этом лекцию — мне или кому угодно. Возможно, все это только сейчас пришло ему в голову. Но так или иначе, передо мной — молодость. Легкость, самоуверенность, сила логики и твердость убеждений. Да, это молодость.
— Надеюсь, дорогой друг, что все это мы прочтем в вашей книге, а сейчас посмотрим, как обстоит дело с ужином, — прервал Давиль лекцию молодого человека и собственные размышления о нем.
За ужином разговор обычно ведется о будничных вещах и событиях. В нем участвует и госпожа Давиль своими короткими и трезвыми замечаниями. Разговор вертится главным образом вокруг кухни: вспоминают кушанья и вина различных областей Франции, сравнивают с турецкой кухней, выражают сожаление, что нет французских овощей, французских вин и пряностей. В начале девятого госпожа Давиль сдержанно зевает, что означает конец ужина. Вскоре она встает и уходит в детскую. Через полчаса расстаются консул и Дефоссе. День окончился. Начинается ночной период травницкой жизни.
Госпожа Давиль сидит у кроватки младшего своего сына и вяжет — быстро, старательно, молча и неутомимо, словно муравей, как делала все в течение дня вплоть до ужина.
Консул снова в своем кабинете за небольшим письменным столом. Перед ним рукопись эпоса об Александре Великом. Давиль давно, уже много лет работает над этим произведением; работает медленно и беспорядочно, но вспоминает о нем ежедневно и неоднократно в связи со всем, что видит, слышит и чувствует. Как уже было сказано, эпос стал для него своего рода второй действительностью, более легкой и приятной, которой он управлял по собственной воле, не встречая ни трудностей, ни противодействия и находя простые решения для всего, что в нем или вокруг него оставалось нерешенным и неразрешимым. В нем он искал утешения за все трудности и награды, за все, чего лишает его настоящая действительность. По многу раз в день Давиль убегал в эту «бумажную действительность» и мысленно опирался на ту или иную идею из эпоса, как хромой на костыль. И наоборот, получая вести о военных событиях, наблюдая какую-то сцену или трудясь над чем-нибудь, мысленно переносил события в свой эпос. Переброшенные на несколько тысячелетий назад, они теряли свою трудность и остроту и, по крайней мере, казались легче и терпимее. От этого, конечно, ни действительность не становилась лучше, ни поэма ближе к подлинно художественному произведению. Но увы, сколько людей опирается в душе на иллюзии, куда более странные и туманные, чем поэтическое произведение с произвольным содержанием, но суровой просодией и строгими рифмами.
Вот и сегодня движением, уже вошедшим в привычку, Давиль положил перед собой толстую рукопись в зеленой папке. Но с тех пор как он, приехав в Боснию, втянулся по обязанности в консульские деловые связи с турками, вечерние часы становились все менее плодотворными и приятными. Образы не возникали, стихи с трудом укладывались в размер и получались неблагозвучными, рифмы, сталкиваясь друг с другом, не высекали искры, как раньше, а оставались незавершенными, похожими на одноногое чудовище. Очень часто он даже не развязывал зеленые тесемки на папке, а использовал ее как подставку для листочков, на которых записывал, что надо сделать завтра или что осталось незаконченным сегодня. В эти минуты, после ужина, он вспоминал все, что было сделано и сказано за истекший день, и вместо отдыха и отвлечения вновь напрягался, заново переживая уже пережитые заботы. Посланные в этот день письма в Сплит, Стамбул или Париж он перечитывал мысленно от слова до слова и с удивительной остротой видел все, что было в них упущено, сказано напрасно или неправильно. Кровь бросалась ему в голову от возбуждения и недовольства самим собой. Все разговоры, которые он вел днем, всплывали в памяти до мельчайших подробностей, и не только серьезные и важные о службе и делах, но даже и самые незначительные. Он прекрасно видел своего собеседника, слышал каждую его интонацию, видел и самого себя, ясно сознавая недостаточность того, что сказал, и важность того, о чем по непонятным причинам умолчал. В голове с неожиданной отчетливостью складывались сильные и выразительные фразы, которые следовало сказать вместо бледных и беспомощных слов, проговоренных на самом деле. Консул шептал их про себя, чувствуя одновременно, что все напрасно, поздно.
В таком настроении поэмы не пишутся, от таких мыслей плохо спится и снятся тяжелые сны, если вообще удается заснуть.
Сегодня вечером перед консулом целиком всплыл недавний разговор с Дефоссе. И он вдруг ясно понял, как много незрелого бахвальства во всех этих рассказах о тройном наслоении дорог разных столетий, о неолитическом оружии, о Караходже и Мусе Певце, о семейном и общественном укладе Боснии. И на все эти бредни молодого человека, которые, как ему теперь казалось, не выдерживают ни малейшей критики, он, словно плененный и зачарованный, отвечал беспомощным: «Вижу, вижу, но…» А что он видел, спрашивается, какого дьявола? Он чувствовал себя пристыженным и униженным и в то же время злился, что придает значение всяким глупостям. В самом деле, разве это важный разговор? Да и с кем он говорил? Не с визирем и не с фон Миттерером он вел беседу, а болтал о пустяках с желторотым юнцом. Но ему никак не удавалось остановить или побороть эти мысли. И, уже решив, что сумел забыть об этих мелочах, он вдруг выскочил из-за стола, стал посреди комнаты с протянутой рукой и принялся твердить себе: нужно было сразу ответить на его незрелые рассуждения, что дело обстоит так-то и так-то, и поставить его на надлежащее место. И в самых незначительных случаях надо выражать свою мысль свободно и до конца, высказывать ее людям прямо в лицо, пусть бы они грызлись из-за нее, а не хранить ее в себе, чтобы потом бороться с ней, как с вампиром. Да, так надо было поступить, а он этого не сделал и не сделает ни завтра, ни послезавтра, никогда, ни в болтовне с самонадеянным юнцом, ни в беседах с серьезными людьми. И отдавать себе в этом отчет будет только вечером, после ужина и перед сном, когда уже поздно, когда значение простых, будничных слов приобретает фантастические размеры.
Так Давиль разговаривал сам с собой, возвращаясь к письменному столику возле занавешенного окна. Но мысли продолжали его преследовать; он беспомощно боролся с ними, неспособный заняться чем-либо другим.
«Даже и их ужасающее пение он считает интересным. И это находит возможным защищать», — жаловался про себя консул.
Подгоняемый болезненным желанием расквитаться задним числом и поразить молодого человека, консул стал быстро и безостановочно писать на белой бумаге, предназначенной для стихов о подвигах Александра Великого:
«Слушал я песни этого народа и видел, что и в них он вносит все ту же дикость и нездоровую злобу, которые вкладывает в любое свое проявление духовное и физическое. Один француз, свыше ста лет тому назад проезжавший по здешним местам и слышавший этих людей, отметил в своих путевых записках, что их пение больше похоже на завывание собак. А между тем или люди здесь изменились к худшему, или добрый старый француз недостаточно познакомился с этой страной, только я нахожу, что в завывании собак гораздо меньше злости и ожесточения, чем в пении здешних людей, когда они пьяны или взбешены. Я наблюдал, как они вращают глазами во время пения, скрежещут зубами, бьют кулаком в стену, то ли спьяна, то ли просто побуждаемые потребностью орать, ломать и крушить. И я пришел к заключению, что все это не имеет ничего общего с известной нам музыкой и пением других народов, а служит лишь способом выражения скрытых страстей и дурных наклонностей, которые при всей своей распущенности они не могут выразить непосредственно, ибо сама природа противится этому. Я говорил об этом с австрийским генеральным консулом. Человек по-военному суровый, он все же почувствовал весь ужас воплей и визгливых завываний, которые раздаются по ночам на улицах и в садах, а днем доносятся из постоялых дворов. «Das ist ein Urjammer» [9], — сказал он. А мне все кажется, что фон Миттерер, по обыкновению, ошибается, переоценивая этих людей. Это попросту беснование дикарей, потерявших простодушие».