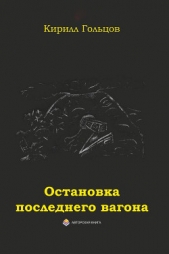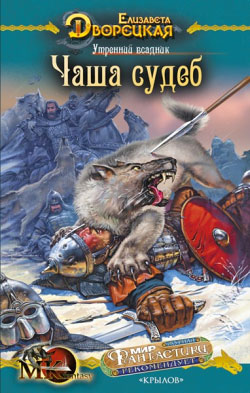Екатеринбург, восемнадцатый
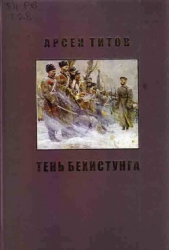
Екатеринбург, восемнадцатый читать книгу онлайн
Роман известного уральского писателя Арсена Титова "Екатеринбург, восемнадцатый" — третья часть трилогии «Тень Бехистунга». Перед вами журнальный вариант этого романа, публиковавшийся в № 11, 12 журнала «Урал» 2014 г.
Действие трилогии «Тень Бехистунга» происходит в Первую мировую войну на Кавказском фронте и в Персии в период с 1914 по 1917 годы, а также в Екатеринбурге зимой-весной 1918 года, в преддверии Гражданской войны.
Трилогия открывает малоизвестные, а порой и совсем забытые страницы нашей не столь уж далекой истории, повествует о судьбах российского офицерства, казачества, простых солдат, защищавших рубежи нашего Отечества, о жизни их по возвращении домой в первые и, казалось бы, мирные послереволюционные месяцы.
Трилогия «Тень Бехистунга» является одним из немногих в нашей литературе художественным произведением, посвященным именно этим событиям, полным трагизма, беззаветного служения, подвигов во имя Отечества.
В 2014 году роман-трилогия удостоен престижной литературной премии «Ясная поляна».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Не могло не спрашиваться и с государя. В отношении государя, Божия помазанника, при всем ныне творящемся рождалось глухое неприятие — за что нам такого помазанника, который, как говорится, не моргнув глазом отмахнулся от тысячелетних трудов и жертв народа? Что его на это подвигло? Он весь ушел в любовь к семье, к больному сыну и забыл о предназначении? Он начитался сочинений Достоевского о единой детской слезе, на которой не построить царства Божия? А как же быть с миллионом детских слез, которые уже реками льются по стране благодаря его отречению? Это что за государь, у которого, как рассказал Бурков, преступники в тюрьмах проходили школу антигосударственной борьбы? Мы считали за счастье для величия империи погибнуть. Он же — что? Он не брал нас в расчет? Ему ловчее было плодить обученных преступников?
Стали ходить некие слухи, к сожалению, только слухи, а не подлинные сведения о том, что он ни в чем не был виноват. Виноватыми были другие, виноватыми были министры, военные высокие чины, вся Ставка, промышленники — одним словом, виноваты были все, вплоть до нас, серой скотинки армии, не сумевшей достойно ответить шапками на германские «чемоданы». Я, как и обещал, был с визитом у нашего учителя истории Василия Ивановича Будрина. Кроме всего прочего, разумеется, разговор зашел и о государе императоре. Василий Иванович тоже был того мнения, что государь не был виноват, и привел в подтверждение чьи-то записки. «Во всем виновата Ставка, — убеждал меня Василий Иванович. — Она, она стала вмешиваться в дела гражданские. И позволило ей это делать одно простое обстоятельство, именуемое Положением о верховном главнокомандующем на случай войны, предполагавшим во главу армии самого государя». — «Так и что?» — спросил я. «А то, что об этом в пылу объявления войны как-то забыли. Верховным был назначен великий князь Николай Николаевич Младший. В Положение же поправка не была внесена. Этим-то воспользовалась Ставка! Она-то и породила ненормальное отношение между нею и верховным правлением государства!» — с всегдашим интеллигентским восторгом по случаю какой-либо неувязки в государстве, но с личным преклонением перед государем сказал мне Василий Иванович.
Пусть так. То есть если это было именно так, то отчего же не виноват государь? Это же, простите, смехотворно! Это что же за власть, которая не может исправить некое упущение? Не так написана бумага? Напишите ее так, как должно! Потеряли чувство реальности подданные, та же Ставка? Верните их в это чувство! Да что говорить об очевиднейшем! На каком-нибудь крестьянском дворе этакое является нормой — тотчас исправить неполадку. А в государстве, именуемом Российской империей, — это невыполнимо! Еще в пятом году, в дни ликования духовной черни, этой русской интеллигенции, вытребовавшей у государя конституцию, дрогнуло мое сердце, подсказало мне мысль о том, что государь не имел права уступить. Но тогда я, полагая чувство товарищества исходящим из служения государю, был вместе с моими товарищами, неизвестно по какой причине, а вернее, просто от детской дурости тоже вдруг возликовавшими. Mea culpa, как говорится, мой грех, грех всего лишь одной стопятидесятимиллионной доли народной души. А и то меня за это гложет совесть. Его же, государя нашего, — что?
Не стал я возражать старому своему учителю. Между нами была огромная и едва ли преодолимая дистанция, нежилое пространство между русским интеллигентом и служащим офицером.
Еще большую логику, прямо логику чистейшего разума кантовской философии, нашел я в событиях вокруг подписания Брестского мира, самими же подписантами, то есть властью, обозванного похабным. Я из этих событий ничего понять не мог. Сама уступка российских территорий, ввержение России в границы времен Ивана Грозного, иного определения не заслуживала. Но укрывалось за нею что-то чрезвычайно умное, иезуитское, идущее не от чувства безысходности, страха за свое обретение власти или еще каких-то чувств. Между мной и Бурковым состоялся следующий разговор.
— Как тебе это? — спросил Бурков.
— Сволочь этот Рихард фон Кюльман! — сказал я о руководителе германской делегации на переговорах. — Его надо судить военно-полевым судом и ранним их прусским утром расстрелять где-нибудь за курятником. Он мог Россию низвести до границ княжества Ивана Калиты, а он не сделал этого, постеснялся или захлебнулся от куриного восторга, что снес хотя бы такое яичко!
— Так ведь у них бы солдат на оккупацию не хватило! — ошарашился моим заявлением Бурков.
— Только тем мы и спаслись! — сказал я.
— Да где там спаслись! — вскричал в жаре Бурков. — Какое там спаслись! Мы по европейской революции, как тележным колесом по червяку, прошлись! Шиш теперь вместо европейской революции! И нам — шиш!
Он с тем же жаром стал дальше говорить о революционной логике, по которой с часу на час должна была произойти революция в Европе, прежде всего в Германии, где, как он говорил, творился страшенный голод, предвестник всякой революции.
— У нас сколько-то там бабы в Питере постояли в хвостах к булочным — и нате вам, Николашка слетел! И в Германии вот-вот должны были его братца Вильгельмку смахнуть! А теперь… Теперь мы им вместо войны — хлебушка на три миллиарда рублей подкинем! И какая, к черту, революция! — стал говорить Бурков.
Я ни в какую возможность никакой европейской революции не верил. То есть я ее вообще считал придумкой нашей новой власти, так сказать, новым оружием — солгать и тем или обезоружить противника, или поманить его на свою сторону. Потому на жар Буркова я скорчил постную мину. Она Буркову не понравилась.
— Да что с тобой говорить! — в сердцах сказал он.
— Гриша! По логике твоего Маркса, о которой ты мне сказал как-то, Европа в революцию не пойдет. Если она голодна, то она все равно сыта. Твой Маркс определил это с абсолютной точностью! — сказал я.
— Ох ты какой марксист! То-то ты не можешь принять нашей революции! Ты, как правый эсер, а то и вовсе как кадет, самое ее сердце расковырять хочешь! — ощетинился на меня Бурков.
— Ну, хорошо, Гриша! — пересилил я себя на продолжение разговора. — Ты надеешься на революцию в Европе…
— Не я один! Все мы ее ждем! Паша говорит, из Кронштадта сообщают, пары на броненосцах уже разводят, орудия расчехлили — готовы прийти на помощь европейскому пролетариату! — не дал мне спросить о причине такой надежды Бурков. — Ты же читал декрет о праве народов на свободный выход из России. А по каку чуму такой декрет нам нужен? А по таку чуму он нам нужен, товарищ правый эсер или вовсе благополучно слепой кадет, что этим декретом мы Европе сказали нас не бояться, что в революцию можно идти спокойно! Мы размахнем революцию в мировом масштабе, а он, мир, скажет, как здесь, на Урале, говорят: ну-к що! Выйтить-то всегда можно!
— То есть, Гриша, вы собрались весь мир сделать Россией? — спросил я.
— Не собрались, а сделаем! Если даже там, в ЦК и ВЦИКе, умствовать начнут да всякие Брестские миры устраивать, мы найдем на них броненосцы, пусть даже Паша им отбой прокукарекает! — несколько зло сказал Бурков.
— То есть как Паша отбой прокукарекает? Что-то ты про своего друга не теми словами заговорил! — удивился я.
— Да шибко правильный он, Паша! Шибко он в рот питерским смотрит и здесь других к этому гнет! Проголосовали, едри его, за этот мир у нас в Екатеринбурге большинством. Он петухом ходит, он расстарался за такую резолюцию! — хлопнул себя по колену Бурков. — Я ему: «Ты что, Паша! Ты же нашу мировую мечту предаешь!» А он: «Держись Ленина, Гриша! Ленин не подведет! Нам ведь этот мир во как нужен был именно такой! Нам ведь надо было Германию довести до белого каления, чтобы она войска двинула! А теперь весь мир видит, что мы не виноваты, что мы мир подписываем под угрозой, а потому: помогай нам, баушка Европа! Поднимай революционный вихрь!» Да с чего она его поднимет, когда туда хлеб наш потечет! Умники, едри их!.. — заиграл челюстными мышцами Бурков, совсем как некогда корпусной ревком Сухман.