Ливонская война
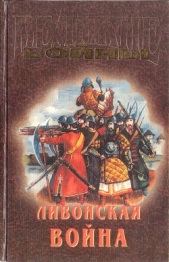
Ливонская война читать книгу онлайн
Новая книга серии «Великие войны» посвящена одной из самых драматических войн в истории России — Ливонской войне, продолжавшейся около 25 лет в период царствования Ивана Грозного. Основу книги составляет роман «Лета 7071» В. Полуйко, в котором с большой достоверностью отображены важные события середины XVI века — борьба России за выход к Балтийскому морю, упрочение централизованной государственной власти и превращение Великого московского княжества в сильную европейскую державу.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В полдень стукнет на Фроловской стрельнице пушка — полетят с куполов белые хлопья, посыплется белая пыль, будто кто тряхнёт высокие, похожие на снежных баб соборные маковки. На стрельницах сменятся пушкари. Скинув бараньи тулупы, разбредутся по кабакам: кто к Фетинье, а кто в Занеглименье, к бронникам, в их питейную избу, которая прозвана на Москве «Гузном».
В ненастный день после полудня совсем пустеет Москва. Расходятся с торга последние людишки, разъезжаются по гостиным дворам купцы, мытник завязывает свою кожаную сумку, несёт её на Мытный двор — привешивать свинцовую печать.
Тихо. Пустынно. Угрюмо.
Через весь посад, через Китай-город — по Никольской, по Ильинке, по Варварке — метёт сквозная поземь: хлещется о кремлёвские стены и стрельницы, наметает сугробы под самые бойницы, а по Тверской, со степи, через растворенные городские ворота, рвётся встречный ветрище. Сшибаются ветры, закручивают неистовую завирюху — кажется, вот-вот земля скрутится свитком.
На звонницах глухо погудывают раскачиваемые ветром колокола. Они то затихают, то с новым порывом ветра сильней напрягают свой гуд — тогда чудится, будто жалобно и надрывно стонет под снегом земля.
В белом мраке лишь-лишь проступают снежными глыбами Кремль, Покров…
До сумерек висит над городом густая, вспененная бель, а с сумерками почернеет, отяжелеет, опадёт на землю, и до рассвета будет лежать на улицах и площадях холодная темень.
Но уж если выдастся погожий денёк, без завирюхи и без снегопада, — тогда Москва разбередится чуть свет. Всполошится люд: кто куда, кто зачем… Идут пешком, едут верхом, в санях, на телегах… Все торопятся, всем к спеху!
На Кузнецком мосту, как всегда, давка и ругань. Пол-Москвы ходит и ездит через этот мост: всё Занеглименье, весь Малый посад, Дмитровка, Петровка, а мост худ — брёвна настила будто плавают на воде, и узок: лишь-лишь, в самый притык, разминуться возам. Замешкается какой-нибудь возница или лошадь споткнётся, смыкнет на сторону — и заторится проезд. Крик такой учиняется, будто орда татарская подступила к городу. Виновный непременно схлопочет по боку иль по загривку, и ладно, если стерпит ещё, не даст сдачи… Тогда разъедутся по-быстрому. А не стерпит, ответит, такая буча поднимается — страшно смотреть! Кто — кого, и кто — чем! Бежит тогда мостовой за стрельцами. Разводят, растаскивают стрельцы драчунов, но бывает, и стрельцам не унять разбушевавшихся ретивцев.
4
Февраль тоже зачался пуржистым. Мело, студило… Москва оцепенела — выветренная, выстуженная, засыпанная снегом.
Ранней весны не ждали. Февраль с пургой — весна с нудьгой. Но вдруг к Масленице непогодь унялась, спал мороз, снег отяжелел, спластался, ветер уже не таскал его следом за собой. Серая кудель облаков осветлилась. Сквозь них тускло проглянуло солнце.
На Москве закуролесила Масленица.
В канун Масленицы, всю сыропустную седмицу [41], на подворье Хворостининых гурбились ряженые: и приходящие, с соседних дворов и улиц, и свои — челядные… Посреди двора нарядили масленицу — сажени в две высотой и в три обхвата.
Ожерелье на масленице из берёзовых чурок, рубаха полотняная, по подолу «мережки» из пряников. Вместо грудей — две сулеи с продыренными боками, из которых тонкими струйками бьёт вино, и боярский виночерпий, спрятавшийся с бочонком под широкой рубахой масленицы, всё время пополняет их. Только подставляй рот и пей!
Блины, в сметане, как в свежем снегу, и в масле, и в мёду, прямо с огня, — горой на деревянных подносах… Слуги несут и несут их, будто где-то в подклетях у боярина расстелена скатерть-самобранка.
Сам боярин сидел на крыльце, укутанный в шубы и полсть, на голове высокая, рыжего меха шапка, похожая издали на горку медовых блинов. Боярин широк, тяжёл и так же потешен и несуразен в своём облачении, как и масленица, пялящая на него из-под чёрной нарисованной брови свой глумливый глаз.
Всю неделю просидел так боярин: ни слова не сказал, ни пошевелился, только глаза его всё время светились, как две маленькие плошки, завистливо и печально следя за шалым разгулом на своём подворье. Сыновья его тоже всю неделю молча и неподвижно простояли за его спиной.
Никому ничего не возбранялось в эту неделю на боярском подворье. Каждый мог вытворять всё, что ему заблагорассудится, и чем жутче, бесстыдней и неутолимей буйствовали ряженые, тем ярче блестели глаза боярина.
— Испола-а-ти, болярин! — вопили самые хмельные и самые восторженные, вползая к нему на крыльцо по обледенелым ступеням.
— Живи сто лет! Тышшу, болярин!..
Самых настырных боярские служки стаскивали со ступенек, чтоб не досаждали боярину, отряжали крутить хоровод, есть блины, пить вино, вконец опившихся оттаскивали в хлев: ни потехи от них, ни задору — лежат кулём… Не для того боярин затеял гульбу, чтоб смотреть, как дрыхнет опившаяся чернь. Только разор, только шалая буйность и дурь — только этого хочет боярин. Лицо его бело — белее снега, покрывшего скат над крыльцом… И у мёртвых не бывает такого лица. Третий год одолевает его хворь, и вот, видать, подступил конец. Глазами, одними глазами вбирает он в себя последние крохи жизни, последнюю радость присутствия в этом мире, и нет для него ничего дороже этого последнего, потому что, вернись к нему снова здоровье и молодость и проживи он опять такую же долгую жизнь, переполненную удовольствиями и радостями, ему всё равно не достало бы этой последней радости и этих последних ощущений причастности к тому великому и непостижимому, которое навсегда исчезало из него.
Глаза его светятся тускло и страшно — живые глаза мертвеца. Всё в нём умерло: и жалость, и сострадание, и злоба, и доброта, душа его опустела, как разрушенный временем дом, и только в глазах — глубоко-глубоко — ещё теплился слабый огонь.
Неподвижен боярин… Сыновья за его спиной — как последняя опора, на которой ещё держится его жизнь. Кажется, отступи хоть один из них, и смерть тотчас обрушится на него.
— Живи тышшу лет, болярин! — распинается чья-то глотка. — До скончания света, болярин!
…Всю неделю крутилась на боярском подворье неистовая гульба, и всю неделю молча, жадно и страшно смотрел на неё старый боярин — как волк, матёрый, ещё повелевающий стаей, но уже бессильный и обречённый.
Он прощался с жизнью, а жизнь бесилась, юродствовала, глумилась сама над собой, словно для того, чтобы он не жалел о ней и не завидовал тем, кто ещё был переполнен ею.
В последний день, лишь только отзвонили обеденные колокола и на подворье срядились сжигать масленицу, кто-то выпустил из псарни собак — для потехи, с хмельной одури… Выпустил собак и затворил ворота. Изъярившиеся, просидевшие целую неделю взаперти, собаки с жутким остервенением кинулись на людей. Будь ворота не заперты, собаки вдоволь бы натешили свои клыкастые пасти и выместились бы на людях за своё долгое мучение, но людям некуда было бежать, и они кинулись на собак — ещё с большим остервенением, ещё злобней и беспощадней. Две ярости столкнулись — звериная и человеческая, и поднялось такое, что даже старый боярин зашевелился.
Старший из сыновей, Андрей, приклонился к нему, осторожно спросил:
— Кликнуть псарей?
Старый Хворостинин напрягся — ему тяжело было говорить, но злорадство, прихлынувшее к нему в душу, так и выперло из него.
— Пусть грызутся… — прошипел он.
— Собак жалко — перекалечат! — ещё осторожней сказал Андрей.
— Пусть грызутся, — повторил Хворостинин.
Старый, умирающий волк, он жаждал последней своей добычи — мести за свою обречённость, и получил её. Собаки и люди, которые сейчас одинаково были ненавистны ему — за то, что должны были пережить его, — сцепились между собой, и кому-то уже не суждено было пережить его. Ему было всё равно кому — собаке или человеку, лишь бы только увидеть, узнать, утешить себя, что он не одинок в своей обречённости.

























