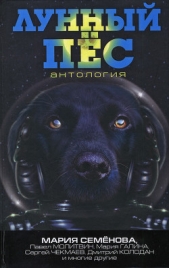Государь всея Руси
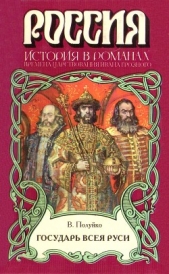
Государь всея Руси читать книгу онлайн
«Таков был Царь; таковы были подданные!
Ему ли, им ли должны мы наиболее удивляться?
Если он не всех превзошёл в мучительстве, то
они превзошли всех в терпении, ибо считали
власть Государеву властию Божественною
и всякое сопротивление беззаконием…»
Н.М. Карамзин
Новый роман современного писателя В. В. Полуйко представляет собой широкое историческое полотно, рисующее Москву 60-х годов XVI в. — времени царствования Ивана Грозного.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И он стал ждать. Не выжидать уже, как прежде, а ждать. Ждать чего-то в самом себе — то ли зарождения той внутренней силы, которая помогла бы одолеть теперь уже самого себя, то ли, наоборот, чего-то такого, что заставило бы отречься от всего, на что толкал разум. И он ждал, а ожидание принесло окончательный разлад с самим собой, и настоящий страх, и гнетущее отчаянье.
Он понимал: если не начнёт действовать сейчас, без промедления, то уже не сделает этого никогда, и прощай его мечта о торжестве Гедиминовичей, — и это усиливало отчаянье, усугубляло ту болезненную слабость духа, которую он неожиданно обнаружил в самом себе и так же неожиданно осознал, что она была в нём всегда, эта предательская слабость, которую он всю жизнь скрывал под разными именами — то осторожности, то рассудочности, то хладнокровия, ни разу не решившись заглянуть в лицо правде. Теперь он это сделал, рассмотрел себя изнутри и назвал всё своими именами и ужаснулся — не столько оттого, что чуть было не ступил на путь, по которому не способен был идти, сколько оттого, что вся сознательная жизнь оказалась прожитой единственно для того, чтобы наконец осознать свою духовную слабость и неспособность к действию.
Жестокая эта правда о самом себе, казалось, сокрушила в нём всё, даже и то, не ложное, не мнимое, а действительно существовавшее в нём, что служило ему опорой повседневно — не в тайных и высоких целях его, а в обыденной, ни на мгновение не прекращающейся борьбе за существование, за то ничтожное и суетное, из которого и создаётся свой присный мирок каждого человека. Он начинал страшиться, что теперь даже в этой житейской толкотне ему может недостать сил сохранить хотя бы то, что уже было отвоёвано. А сохранить хотелось, и не потому только, что высокое и первостепенное, ради чего, как думалось всегда, он должен был жить и жил, отступало, разрушая всё то, что ставилось и ценилось им гораздо выше суетного и обыденного, добытого походя в сутолоке жизни, но и потому ещё, что он любил жизнь — не просто инстинктивно, с безумным упоением, а осмысленно, глубоко, ревниво, через любовь к самому себе, к этому своему заповедному «я», особенному и неповторимому, которое и было для него источником неиссякаемого разнообразия жизни.
Он любил жизнь, любил всё, чем дарила она его: славу, почести, роскошь — и хотел сохранить всё это. В его жизни сейчас рушилось только первостепенное, тот высший смысл, составлявший главную ценность его «я», который позволял ему считать себя выше всех прочих, кто так же, как и он, дрался за место под солнцем, за хлеб насущный, за славу, за почести... Но, присутствуя в его жизни незримо, это первостепенное так же незримо и рушилось, а жизнь оставалась. Оставалась её явственность, оставалась любовь к ней, любовь к своему «я», которое хоть и было сведено с прежней высоты, однако же не низвергнуто столь низко, чтоб не заявлять о себе. Правда, ничто уже не могло быть как прежде: слишком суров был приговор самому себе и слишком многое было разрушено в душе, и прежде всего та самовозрождающаяся сила, которая способна была в полной мере противостоять окружающему миру. Повергнутый в отчаянье от сознания своей слабости, он впервые с необычайной остротой ощутил ту первозданную пустоту, развёрнутую подо всем живым в этом мире, в которой каждый стремится найти для себя опору — найти, добыть, вырвать у других, завоевать, чтоб не погибнуть, чтоб выжить... ВЫЖИТЬ! И только сильные находят эту опору, только сильные выживают, а он был слаб, и понимал это, и боялся, что пустота поглотит его. Но это не был страх обречённого, скорей всего, это вообще был не страх. Это было смятение слабого человека, переоценившего свои силы, а может, и не слабого — просто переоценившего свои силы.
Да, в нём говорили растерянность и смятение, перешедшие в отчаянье, но не страх, потому что страх парализует не только волю, но и разум, он делает человека беспомощным, жалким, мечущимся, как затравленный зверь, а Мстиславский вовсе не был таким. Он оставался и теперь всё тем же Мстиславским, каким его всегда привыкли видеть, и разум его продолжал работать всё так же трезво, чётко, целеустремлённо. Он даже продолжал наблюдать за Иваном, как и прежде, пристально и ревниво, и улавливал в нём тоже какую-то странность, необычность, словно и в его душе совершалась какая-то мучительная борьба, лишавшая его уверенности, решительности... Вместо того чтобы действовать — решительно, твёрдо и открыто, не таясь, как таились вокруг него другие, как таился сам Мстиславский, — действовать с мечом в руках, как и подобало государю, считавшему себя правым в делах и задумах своих, он почему-то медлил, таился, выжидал. Мстиславский, обращая взор в собственную душу, понимал, что Иван тоже слаб и недостаточно смел. Его замыслы и намерения были куда смелей его личной смелости, и человеческое в нём было совсем не таким, каким было царское, но в нём была страсть, неведомая Мстиславскому, и эта страсть заменяла ему и духовную силу, и смелость, она была неукротима, яростна, неистова, но — странно! — не бездумна, не опрометчива. Какой-то тайной связью соединялась она с его разумом, и было жутко, когда они начинали действовать сообща.
Казалось, и теперь, в минуту надвигающейся опасности, из Ивана выметнется это всесокрушающее неистовство, возмездное и мстящее, жестокое и беспощадное, и только злой помин останется от всего, что сейчас обступило его. Но нет, не прорвало его душу это яростное неистовство. Удержал он его в себе. Усмирил. Может, удавил, сам страшась его опустошающей, мертвящей силы, а может, видел и знал, что теперь уже недостаточно одной только страсти, и не испугает, не сокрушит она его врагов, потому что уж слишком хорошо узнали они его и слишком много их было теперь... Слишком много! Нужна была надёжная и крепкая сила, чтоб одолеть их, а силы-то этой у него и не было. У него её не было и раньше, но тогда не он стоял в центре борьбы и не с ним дрались бояре за власть. Они дрались друг с другом, не обращая на него внимания, а он разумно и счастливо пользовался этим. Теперь в центре — он! Нет больше Оболенских, дерущихся за власть с Шуйскими, и Шуйских, вырывающих её у Бельских, теперь есть он — государь всея Руси, а вокруг, как войско при осаде, — они: Шуйские, Бельские, Ростовские, Оболенские и — всея Русь, потому что и она тоже не хотела поступаться своим вековечным, привычным, обжитым, и она не хотела идти за ним туда, куда он тащил её. Она ждала от него добродетели, благ, защиты, милости, а дождалась совсем иного... И если она въяве ещё молилась на него, то только оттого, что втайне уже начинала проклинать. И он, должно быть, чуял это, чуял своим неистовым сердцем, поднявшим его против всех и всего, и понимал, что дальше будет ещё трудней: ещё упорней будет сопротивление, ещё ожесточённей борьба — и кровь, кровь, кровь, от которой содрогнётся он и сам. И думал Мстиславский, наблюдая за Иваном, что он тоже отступится. Отступится, потому что одно дело — посадить в темницу своего первобоярина и вздёрнуть на виселицу какого-то дерзкого бунтовщика Ивашку Магренина, другое — схватиться со всем боярством, рубануть по суку, на котором держишься сам, а потом — встать лицом к лицу с сотней тысяч таких Ивашек, обездоленных, голодных, яростных, злобных, разуверившихся, и не накормить их, не облагодетельствовать, а таких же голодных и обездоленных повести за собой (не погнать — повести!) через новые беды и лишения к ещё большим бедам и лишениям.
Только безумец мог не отступиться перед таким! А Иван не был безумцем. Велика была сила его страсти, но разум был сильней. Он был самой большой его силой и самой большой слабостью, самым уязвимым его местом — и для других, и для него самого. И более всего — для него самого.
Разум, разум должен был остановить его. На это уповал Мстиславский. Ведь, не обдумав и не взвесив всё до ничтожнейших мелочей, он не решился бы на такой шаг, но тем более не мог он пойти на такое, когда б обдумал всё и увидел, на что идёт. Это был замкнутый круг, который не удалось разорвать Мстиславскому самому, и он думал, что бессилен будет сделать это и Иван. Он хотел этого, ждал, ждал с тем ублюдским чувством мстящего злорадства, за которое всегда презирал других и за что точно так же стал презирать себя, но победить, заглушить его в себе не мог — оно несло ему облегчение и — странно! — возрождало в нём угнетённый дух. Через презрение к самому себе, через ничтожнейшее чувство тайно ожидаемой радости — не за своё превосходство, а за чужое бессилие, — к нему возвращалось его прежнее, сокровенное, и он чувствовал, что ни от чего не отказался, ни от чего не отрёкся, не отступился, и всю жизнь, до самых последних своих дней, будет носить это в себе, и оно будет и его гордостью, и позором, и болью, и всю жизнь он будет врагом Ивана, бессильным, тайным, ничтожным, но — врагом, и всю жизнь, всегда будет ждать и тайно и зло радоваться всему, что низведёт того до него самого.