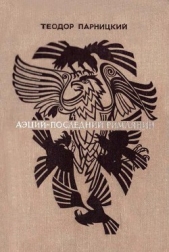Серебряные орлы
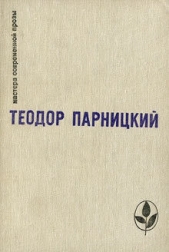
Серебряные орлы читать книгу онлайн
Автор — известный польский исторический романист. Действие романа происходит в период раннего Средневековья, начало XI века, во время правления польского короля Болеслава I Храброго, который в многолетней упорной борьбе с германскими феодалами отстоял независимость молодого польского государства, закончил объединение польских земель. Интересен образ императора Оттона III, который тщетно пытался осуществить утопический план создания мировой монархии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Всхлип послышался в голосе Оттона, когда он вскликнул:
— Скажи, во имя премудрости господней скажи, Герберт… — Видно было, что его раздирает непереносимое отчаяние… Что он судорожно цепляется с безграничным доверием ребенка за твердый, падежный посох поводыря, вернейшего из верных поводырей, который один только знает надежную дорогу над пропастью.
Нил не смотрел на Герберта. Но смотрели на него, как на огненный столп, и Оттон, и папа, и настороженнее, внимательнее всех — Феодора Стефания. Аарону показалось, что тяжкий, страдальческий вздох предварил слова, которые, как всегда, спокойно, отчетливо, хотя на сей раз как будто с трудом, потекли из груди из уст Герберта:
— Суд идет о посягательстве на Петровы права, пусть Петр и ответит… императорскому величеству.
— Петр уже ответил…
— А ты уверен, Бруно?
— Уверен, грек.
И тишина. Тишина на поле сражения после краткой, по дикой стычки. Тишина набухшей ужасом минуты подсчета потерь. Чей удар был больнее, действеннее? Чей воинский стяг уже покачнулся?
Спустя миг вновь стал напирать Нил. Уже впрямую. Уже по касался белым туманом головы Феодоры Стефании. Не припадал лицом к ноге Оттона. Аарон видел голый череп, обращенный к нему отчетливым, орлиным профилем. Под высоким, высохшим, изборожденным сетью морщин лбом горел большой, черный, полный юношеской живости глаз. Полный неизменной свежести голос бил настойчиво, словно тараном в башню, железным именем Бруно, словно не знал, не желал знать, что светловолосый франк в латах — это пастырь господних агнцев, пастырь пастырей, Григорий. Казалось, София придала голосу своего любимца огромные мощные крыла. Крыла, на которых он возносился до громовых пределов, чтобы потом опасть медленным орлиным кружением до приводящего в трепет шепота.
— А истинно ли, что твоими устами говорил Петр, Бруно? Не ошибся ли ты, говоря, что из его рук принял ты вместе с ключами и меч гнева и мщения? Припомни, заклинаю тебя кровью и телом господним, припомни: когда Петр в Гефсиманском саду отрубил мечом ухо Малху, разве не исцелило тогда рапы священное слово: «Все взявшие меч мечом погибнут»? А ведь там, Бруно, святотатственно посягнули на почто в тысячу раз священное, нежели ключи Петровы…
Он прервался. Громко вздохнула столетняя грудь. Бессильно раскинулись крестом столетние руки, медленно опали ладонями наружу, к сверкающим плитам пола.
— Боюсь я за тебя, Бруно.
— За себя бойся, старец. За свою душу, запятнанную грешной, слепой приверженностью к соплеменной крови.
— Заблуждаешься, Бруно. Не за соплеменную кровь, за себя самого борюсь. Если бы только моей голове грозил меч, ты бы не удивлялся, что я взываю к милосердию. А разве не сказано: «Возлюби ближнего, как самого себя»?
— Заблуждаешься, грек. Разве не сказано: «Не будет ни иудея, ни эллина?» Но ведь для тебя ближе грек-симонит, нежели добродетельный муж, по иноплеменный.
— Ты не добродетельный муж, Бруно.
— А это уж бог и святой Петр пусть решат, грек. Но на сей раз я не о себе говорил. Я говорил о стольких благочестивых мужьях, о епископах и наместниках Петровых, столько раз распинаемых и казнимых руками Кресценциев и их подручных, фальшивых пап, точно таких же, как Иоанн Филагат, симонитов… Где же ты тогда был, старец? Ведь тебе же ближе было до Рима из монтекассинский обители, чем сейчас из Гаэты… и ноги у тебя были моложе… Почему же ты тогда не встал на колени на Капитолии, почему не напоминал, что кто меч берет, от меча и погибнет? Потому что истязали и убивали римлян и италийцев, а не греков… потому что ты не встречал их во время ребяческих игр под пальмами родного города… За столько долгих лет, полных горестей и раздумий, не сумела мудрость господня смыть с тебя нечистой, позорной черты, которая, будто столб пограничный, отдаляет в твоей душе греков от негреков… Произнесли твои уста: «Именем предвечной мудрости». А ты припомни, Нил, заклинаю тебя, припомни: разве, сотворив небо и землю, солнце и луну, рыб и птиц, сказал ли он в день шестой: «А сейчас сотворю грека по образу и подобию моему»?
Из тайников памяти Аарона начал выплывать образ архиепископа Эльфрика, борющегося с королем Этельредом за поездку ирландского сироты в Вечный город. Наверняка этими же словами уламывал митрополит кентерберийский яростное сопротивление народной гордости, воплощенной в королевском величии: «Скажи, досточтимый господин мой, ты считаешь, что бог сказал в день шестой: «А сейчас сотворю сакса и англа по образу и подобию моему»?!
Но неужели и впрямь вдохновение Нила питает только общность крови? Общность детских игр с Филагатом в тени портиков города Россанно, где он родился? Нет, Аарон, хочет верить и будет верить, что вдохновение его — это братская общность в службе Софии. Она, только она велит стоящему над гробом старцу противиться непреклонной суровости ключаря небес. И может быть, переубедит, убедит, вырвет из-под меча мудрую голову Иоанна Филагата, ибо сказано: «Царство небесное силою борется и употребляющие усилие восхищают его…»
Но в таком случае, почему Герберт не встанет рядом с Нилом, не поддержит его в набожном милосердном насилии — он, столь искушенный в служении Софии, связанный столькими крепкими узами и с нею, и всей ее ратью, немногочисленной, по достойной, по всему свету рассеянной… он, о ком шепчут, что в Испании братался, научаясь мудрости, с не знающими благодати крещения маврами и евреями?
Вновь заговорил Нил. Он говорил, что бог строго покарает всех мучителей и убийц. Покарает и Кресценциев. Покарает и тех, чья рука соучаствовала в их преступлениях, невзирая на то, помазана ли эта рука священным елеем в согласии с канонами или без согласия. Но каждого покарает в отдельности за его личные вины — никто не сможет прикрыть свою вину чужой! И уж менее всех тот, кто говорит о себе, что он наместник бога на земле…
— Ты говоришь это о святейшем папе? — резко прервал Нила Оттон. — Неправо говоришь. Как видишь, я позволяю тебе говорить все и сколько хочешь, ибо чту твою мудрость и святость, но помни, тебе не вольно принижать святого императорского величия… Святейший папа, епископ Рима, наместник Петра… он правит наидостойнейшей Римской церковью и блюдет чистоту веры во всех земных пределах… Но земными пределами правит император, на которого непосредственно нисходит вдохновение господие.
Нил горько усмехнулся:
— Неисправимый отпрыск греческих самодержцев… Ты уж меня прости: вдохновение господне не нисходит на земной мир непосредственно или же посредством Петра, а…
Казалось, Оттон вновь взорвется. Гневно шаркнул ногой, оторвал ее от лица Феодоры Стефании. Но до взрыва не дошло. Как и все остальные, Оттон онемел вдруг от изумления и ужаса: Нил поднялся, выпрямился, резко выкинул руки к Григорию Пятому и крикнул или, вернее, простонал, громко и страдальчески:
— …но не знаю… не знаю, имела ли когда-нибудь мудрость господня на земле столь недостойного и неверного владыку, как вот этот… этот рыцарь в звенящих воинским железом латах…
Вскочил Оттон, медленно поднялся Герберт, только Феодора Стефания почти не шелохнулась.
Только взгляд ее, все такой же ленивый и сонный, с явным любопытством обратился сначала к глазам Герберта, потом, минуя, Нила, к железным латам Григория Пятого.
А Нил уже вновь стоял коленопреклоненным. Голый череп склонялся к самым ногам папы, оснащенным шпорами. Страшно исхудалые старческие руки сплелись на запавшей груди, сотрясаемой не то трепетом, не то рыданием. Шепотом, дрожащим, по таким проникновенным и выразительным, что Аарон отлично улавливал каждое слово, он молил, целуя то одну, то другую ногу папы:
— Бруно, брат и сын наимелейший, заклинаю, признайся… не скрывай, принял ли ты из страшных рук сатаны тот дар мощи и власти, который господь наш отверг в пустыне… Скажи, внук воинов и могущественных владык, сын крови и железа, когда он показал тебе с крутой вершины все королевство мира и сказал: «Все это будет твое», преклонил ли ты перед ним колени? Преклонился ли ты перед ним?