Последнее письмо из Москвы
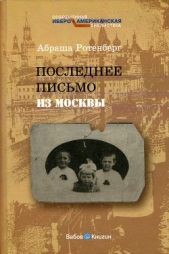
Последнее письмо из Москвы читать книгу онлайн
Абраша Ротенберг — известный аргентинский журналист и издатель. Он родился на Украине, жил в Магнитогорске и Москве, переехал с родителями в Аргентину, где и стал известным литературным и общественным деятелем. Впервые его произведение издано на русском языке в рамках проекта Bookcoupon (Книги по подписке) благодаря поддержке читателей. Читатель поразится не только тому, через какие жизненные коллизии проходил сам автор и его близкие, но и той честности, с которой человек способен посмотреть на себя и на свой внутренний мир.
Издательство «Вебов и Книгин» впервые предлагает читателям роман Ротенберга «Последнее письмо из Москвы» в переводе на русский язык.
Этот автобиографический исторический триллер, приправленный иронией, скепсисом и еврейским юмором в традициях Шолом-Алейхема, заработал огромную мировую известность.
Благодарим наших подписчиков, поддержка которых помогла изданию этой книги.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мой дед не пользовался особым уважением у соседей, которые считали его нелюдимым, ненабожным и вообще неверующим; по их мнению, лучшей его подругой была пол-литра (а то и две пол-литры, если не больше), а его действия и реакции всегда были неадекватными по силе и последствиям: они имели случайный характер, как, впрочем, и его щедрость. Его появление на людях всегда было будто гром среди ясного неба. Никто не знал, чего от него ждать в эту самую минуту. Сыновья его не только уважали, но и боялись. Не было человека, который выдержал бы дедов взгляд. Из-за этого тяжелого характера семья всегда жила обособленно. У бабки и деда было шестеро детей, последний из них родился тогда же, когда и первая внучка.
Евреи Чона говорили в основном на идиш, но с соседями-иноверцами болтали на украинском. А бабка моя была исключением: она больше тяготела к русскому. Я так и не узнал, как она выучила этот язык, и не понял, откуда у нее была эта странная тяга к литературе и точным наукам.
Как и в других маленьких городках, в Чоне были и церковь, и синагога, хотя все равно все относились друг к другу предубежденно и с недоверием. Этот враждебный мир всегда готов был обрушиться на евреев — иноверцы уничтожали их собственность и ломали их жизни, но иногда мирились с их существованием. Все эти забитые люди разных национальностей и вероисповеданий боялись выступить против своих многочисленных гнобителей — царского режима и властей в целом.
Нередко власти разжигали ненависть и организовывали погромы, чтобы дать выход нетерпимости и направить ее против самых беззащитных. В годы Первой мировой войны политическая ситуация стала совсем невыносимой. Властные структуры ослабевали и приходили в упадок, пришедший им на смену новый революционный строй был суров, насаждался огнем и мечом.
Приходили мессии, которые, в отличие от предшественников, родились не в Теофиполе, а были порождением революционного движения, созданного потомком иудеев-выкрестов по имени Карл Маркс. В дни, потрясшие весь мир и навсегда изменившие историю России (да и направление человеческой истории в целом), захваченные врасплох жители Чона переживали своеобразный катарсис. Рождался новый порядок, который должен был глубоко изменить государственный строй и само некогда застывшее в развитии общество.
Во время революции многих евреев жестоко дискриминировали, потому что, согласно новой идеологии, они были паразитами — посредниками, мелкими предпринимателями. Общество превыше всего ценило производительный и продуктивный труд — до такой степени, что даже писателей называли «инженерами человеческих душ». Маргинализация искусственно усугублялась скорее из политических и экономических, а не рациональных соображений, поскольку антисемитизм формально был запрещен законом, но искоренить его было невозможно, так как истоки его находятся где-то очень глубоко в народном сознании. Некоторые законы, которые были косвенно направлены против евреев, были выдуманы их собственными братьями — вождями революции. Сталин уничтожил их годами позже во время радикальных чисток, которые сопровождались распространением антисемитских мифов, вроде легендарного дела врачей-отравителей.
В новой политической системе мой дед, как и все его сыновья, значился паразитом, врагом пролетариата, не способным стать полноправным членом нового революционного общества рабочих и крестьян. Наша семья разделилась на революционеров и паразитов — и отец мой был отнесен к последним.
Неподалеку от Теофиполя, в двадцати с небольшим километрах, находился небольшой поселок без особенностей в названии: что на идиш, что на украинском он назывался Западенец — поселок, откуда была родом моя мать. Чтобы представить себе штетл (так на идиш называется поселок, уменьшительная форма слова «штот», что значит «город»), можно обратиться к рассказам Шолома Алейхема или картинам Марка Шагала, только без женихов и невест в тумане или скрипачей на крышах, поскольку реальность была гораздо более серой и скучной.
Я хорошо помню Чон и Западенец, хоть и был совсем ребенком, когда мы уехали. Западенец был гораздо меньше Чона, там жило меньше людей — такой обитаемый островок среди полей. Над оврагами, которые зимой были полны слякоти и грязи, стояли домики, сложенные из «глины и печали», как писал поэт Ицик Мангер, такие же, как на картинах Шагала; они сохранились в моей памяти как что-то внешне нецелостное, стоящее на краю пропасти, но при этом внутренне очень теплое и гостеприимное. Дома резко заканчивались, и за ними тут же, без какого-либо перехода, начиналось поле, и по вечерам поселок наполнялся пением крестьян, идущих домой с полевых работ.
Чон же, напротив, казался очень целостным: одна-единственная улица разделяла поселок на две части, и по ее сторонам стояли дома, окруженные небольшими садами. Улица вела к мостику через журчащую речушку, куда мы летом ходили купаться. За мостом начиналась грунтовая дорога через поле.
Дом деда стоял на окраине Чона, совсем недалеко от моста через реку. Дом этот был добротно сложен и окружен садом. В хлеву жевала свою жвачку корова, и еще там был любимый дедов конь, которого тот выторговал у своих коллег. Напротив деда и бабки жила украинская семья: дед, муж с женой и двое детей. Я часто играл с их дочкой Наташей. А ее старший брат вечно нам докучал — надо ли говорить, что я его сильно недолюбливал?
Прямо у двери дома часто сидела моя бабушка, неподвижная, словно статуя, и, отгородившись от окружающей суеты, часами, а то и целыми днями читала свои книги. Я помню, как она сидела, склонившись над страницами, сосредоточенная, как только может быть сосредоточен близорукий, жаждущий знаний человек. Ее не волновали домашние дела и требования мужа. В доме царил хаос, а бабушка безоглядно предавалась чтению. Иногда ей хотелось поделиться впечатлениями от прочитанного, и, если не попадался достойный собеседник, она делилась со мной. Я слушал ее рассказы, и они, полные красоты и таинственности, далеко не всегда были мне понятны. Меня завораживала ее манера рассказывать, и то, с какой радостью в лице она пересказывала содержание книги, главы или просто вспоминала какую-то фразу, а затем тут же вновь погружалась в чтение без какого-либо предупреждения или объяснений. Сбитый с толку, я просил ее продолжить рассказ или хотя бы почитать вслух, но она отвечала мне:
— Ты еще слишком мал. Прочтешь сам, когда подрастешь. А пока посиди и посмотри, как это делаю я, поучишься.
Иногда, сжалившись надо мной, она учила меня некоторым буквам. С ней я научился расшифровывать слова и кое-как их записывать. В те времена и зародилась моя жажда к чтению.
У бабушки, несмотря на строгость, иногда случались приливы нежности. Когда она чувствовала, что я расстроен или одинок, то бросала свои книги, чтобы поговорить со мной или успокоить.
В Западенце у меня не было пожилых родственников — только дядья и тетки. Родители матери умерли молодыми, оставив детей сиротами, и старшие присматривали за младшими. В тяжелые времена они сохраняли семью, поддерживали друг друга и потому всегда держались вместе. В семье моей матери очень ценили желание учиться, деликатность, такт, уважение к ближнему; там не было места грубости и насилию.
С приходом революции большинство маминых и папиных братьев и сестер, которые к тому моменту были уже подростками, получили возможность учиться. Грамотность стала приоритетной целью новой власти, важнейшей задачей, решение которой должно было изменить сознание и способ жизни людей, выросших в косном и неграмотном обществе. Как только революция состоялась и новый строй закрепился, старые идеалы резко сменились противоположными. Перемены сильнее всего затронули молодежь, которая теперь могла пользоваться неслыханными до революции привилегиями; отец получил возможность учиться в государственной школе, что при царе было немыслимо.
Мать свободно говорила по-русски и по-украински, и ее знания позволяли ей работать в том, что сейчас мы называем сферой услуг. Она плохо знала идиш, лишь на разговорном уровне, а ее знания об иудаизме ограничивались памятью о каких-то семейных праздниках, которые случались когда-то давно, в другой жизни. Я воспитывался в таких условиях, когда все вокруг говорили по-русски или по-украински, а национальные обычаи были замещены святой верой в революцию; я никогда не ощущал себя особенным среди других детей и не осознавал своей принадлежности к евреям, хотя в моей семье, особенно со стороны отца, эта принадлежность всегда подспудно проявлялась.
























